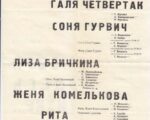11 августа 1863 года в Ялте не стало русского актера, одного из основоположников русской актерской школы Михаила Щепкина. Накануне он приехал в Алупку, чтобы прочитать в Воронцовском дворце отрывок из «Мертвых душ» Николая Гоголя.

Современники называли Михаила Семёновича Щепкина «Пушкиным русской сцены».
Первый артист русского театра, основоположник реализма в сценическом искусстве Михаил Щепкин не имел актерского образования. Он родился в крестьянской семье в селе Красное Курской губернии. Крепостные мать и отец принадлежали помещику, графу Гавриле Волькенштейну. Отец Михаила, Семён Григорьевич, управлял всеми поместьями Волькенштейна и был на хорошем счету. В детстве Мише нередко доводилось бывать с родителями в барском доме, где он читал наизусть стихи и исполнял детские песенки.
«Оба они (мать и отец. – С. И.) были любимы своими господами, и оба вполне заслуживали такую любовь, ибо они принадлежали к числу тех слуг, каких в наше время уже не встречаешь, – говорится в «Записках актера Щепкина». – Граф и графиня были примерной доброты, хотя оба как люди имели свои недостатки; но эти недостатки так были мелочны, что для людей, им подвластных, при тогдашних обстоятельствах и образе мыслей, не могли быть чувствительны. Отец мой пользовался неограниченной доверенностью графа, а мать – графини».
Щепкин-старший не единожды пытался получить вольную для себя и семьи, однако граф, будучи ярым сторонником крепостного права, снова и снова отклонял просьбу.
В 1793 году Семен Григорьевич перевез семью в соседний Суджанский уезд. Там Миша, которому на тот момент было пять лет, стал учиться грамоте у старого ключника хлебного магазина. Смышленый мальчик постиг все меньше чем за год, больше учиться у ключника было нечему, и Михаил заскучал. Родители отправили сына сначала в Кондратовку на учебу к священнику, затем – в Белгород. Михаил Семёнович впоследствии вспоминал: «Не оскорбляя памяти покойника, я должен сказать, что новый наставник мой отец Димитрий был тоже недальнего образования и только в тогдашнее время мог быть священником: что не каждый день повторялось в служении, то он разбирал весьма плохо (…) Учился я весьма легко и быстро, ибо едва мне сравнялось шесть лет, как я уже всю премудрость выучил, т. е. азбуку, часослов и псалтырь; этим обыкновенно тогда и оканчивалось все учение, из которого мы, разумеется, не понимали ни слова, а приобретали только способность бегло читать церковные книги».
Путь в Белгород лежал через село Красное, поместье Волькенштейна. Остановившемуся там на ночлег Михаилу Щепкину разрешили побывать на любительском спектакле по опере «Новое семейство» Сергея Вязмитинова, который в тот день давали в доме графа. Это была первая постановка, которую увидел будущий актер.

«Я было пустился в расспросы: что такое опера? Но вместо объяснений мне просто сказали: «А вот сам увидишь!» – и потому я это принял равнодушно; я не знал, что в этот вечер решится вся будущая судьба моя», – вспоминал Михаил Щепкин.
В Белгороде Миша снова изучал библейскую грамоту, пока его не перевели в Суджанское народное училище. Здесь 11-летний Щепкин впервые вышел на сцену. Он участвовал в спектакле «Вздорщицы» по комедии Александра Сумарокова. Мише дали роль слуги Розмарина. Во «Вздорщицах» принимала участие и его сестра Александра, с которой они вместе учились в училище. Вот как вспоминал о своем дебюте Михаил Щепкин в «Записках»: «В пять часов вечера собрались зрители. Актеры оделись кто как мог поопрятней, поумылись, причесались; играющие женские роли, разумеется, были одеты, смотря по содержанию роли: сестра была в белом платье, с ленточкой на голове, в башмаках на высоких колодочках. На мне был длинный сюртук и розовый платок на шее. Посетители уселись, и началось представление. Вначале я как будто струсил, но потом был в таком жару, что себя не помнил, и чувствовал какое-то самодовольствие, видя, что быстрее меня никто не говорит. Посетители были очень довольны, хлопали напропалую, а городничий изредка одобрял словесно: «Хорошо, лихо!» и тому подобными восклицаниями. По окончании пьесы нас всех подозвали и начали расхваливать, а родители игравших осыпали детей поцелуями и потом стали изъявлять благодарность учителю за то, что поместил их детей в число играющих».
После успешной постановки городничий пригласил юных артистов выступить у него в доме на обеде, который он давал молодым по случаю бракосочетания дочери.
«От начала до конца пьесы хохот не прерывался, хлопали беспрестанно, одним словом, такой был шум, что нас, я думаю, и наполовину не слышали, – вспоминал Михаил Щепкин. – По окончании же пьесы все гости наперерыв осыпали нас похвалами; дамы всех целовали, а сам городничий, притопывая ногой, кричал: «Славно, дети, славно!» (…) Меня же (…) городничий погладил по голове, потрепал по щеке и позволил поцеловать свою ручку, что было знаком величайшей милости, да прибавил еще: «Ай да Щепкин! Молодец! Бойчее всех говорил: хорошо, братец, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!»
В 1802 году Михаила Щепкина привезли в Курcк и отдали в губернское училище, состоявшее из четырех классов. Проэкзаменовав Мишу, его приняли сразу в третий класс. Учебу Щепкин совмещал с игрой в графском домашнем театре. Также юноша старался не пропускать ни одного спектакля в местном театре, которым управляли братья Барсовы. Сначала Михаил носил в театр инструменты для музыкантов, затем стал суфлером и переписывал тексты для актеров. Однажды Щепкин заменил артиста в роли Андрея-почтаря в пьесе «Зоя» французского драматурга Луи-Себастьяна Мерсье. Дело было так: «Актер Арепьев прислал записку из трактира, что он все платье проиграл и обретается в одной рубашке: так чтоб прислали ему денег для выкупа платья; если же не вышлют, то он играть в бенефисе не может, потому что ему выйти не в чем, да и не выпустят. А как он почти все жалованье забрал вперед, то содержатель отказал ему в деньгах (…) Я дрожащим голосом спросил: «А что он играет?» – «Андрея-почтаря в драме «Зоя». (…) Так как прошедшую зиму часто я суфлировал эту драму и знал ее очень хорошо, поэтому тут же, задыхаясь от волнения, предложил: «Позвольте, я сыграю эту роль». (…) Выйдя за ворота, я все забыл, кроме того, что я завтра играю, и, несмотря на то, что шел по улице, дорогой начал учить роль и несколько раз останавливался, не замечая, что прохожие подсмеивались надо мной, но я, кроме книги, ничего не замечал, и когда пришел домой, то роль была почти уже выучена (…) Как я играл, принимала ли меня публика или нет – этого я совершенно не помню. Знаю только, что по окончании роли я ушел под сцену и плакал от радости, как дитя».
Дебют прошел хорошо, все хвалили Щепкина, а граф даже презентовал ему «новый, нешитый триковый жилет»: «После чаю, выпитого, разумеется, в порядочном количестве, я лег спать и, кажется, всю ночь бредил игрой. На другой день все вчерашнее мне казалось сном; но подаренный жилет убеждал меня, что то была сущая истина, и этого дня я никогда не забуду: ему я обязан всем, всем!»
После окончания училища 17-летний Михаил Щепкин стал личным секретарем графа Волькенштейна. Это помогло ему сблизиться с высшим обществом. Кроме того, Щепкин продолжал совершенствоваться в любимом деле: теперь он был постоянным актером труппы Барсовых.
В 1810 году Щепкин познакомился с князем Прокофием Мещерским. В тот день князь играл Салидара в спектакле дома у князя Голицына по комедии Александра Сумарокова «Приданое обманом». Михаила поразил актерский стиль князя, который разрушил его прежние представления о сцене.
«Князю было уже лет за семьдесят, но такой красивой старости я другой уже не припомню: благороднее лица нельзя выдумать, и притом в речах и во всех движениях его виден был вельможа в полном смысле, – вспоминал Михаил Щепкин. – (…) И вот я в театре, вот оркестр заиграл симфонию, вот поднялся занавес, и передо мною князь… но нет! Это не князь, а Салидар скупой! Так страшно изменилась вся фигура князя: исчезло благородное выражение его лица, и скупость скареда резко выразилась на нем. Но что же! Несмотря на это страшное изменение, мне показалось, что князь играть совсем не умеет. У, как я торжествовал в этот миг, думая: «Вот оно! Оттого что вельможа, так и хорошо! И что это за игра? Руками действовать не умеет, а говорит… смешно сказать! – говорит просто, ну так, как все говорят. Да что же это за игра? Нет! Далеко вашему сиятельству до нас!» (…) Чем далее шла пьеса, тем больше я увлекался и, наконец, даже усомнился, что чуть ли не было бы хуже, если б он играл по-нашему. Словом, действительность овладела мною и не выпустила меня уже до окончания спектакля: кроме князя, я никого уже не видал; я, так сказать, прирос к нему. Его страдания, его звуки отзывались в душе моей; каждое слово его своею естественностью приводило меня в восторг и вместе с тем терзало меня. (…) Пьеса кончилась. Все были в восторге, все хохотали, а я заливался слезами, что всегда было со мною от сильных потрясений. Все это мне казалось сном, и все в голове моей перепуталось: «И нехорошо-то князь говорит, – думал я, – потому что говорит «просто»; а потом мне казалось, что именно это-то и прекрасно, что он говорит «просто»: он не играет, а живет. (…) И как мне было досадно на самого себя: как я не догадался прежде, что то-то и хорошо, что естественно и просто! (…) Так князь Мещерский, без желания, указал мне другой путь. Все, что я приобрел впоследствии, все, что из меня вышло, всем этим я обязан ему; потому что он первый посеял во мне верное понятие об искусстве и показал мне, что искусство настолько высоко, насколько близко к природе. К этому рассказу мне остается только прибавить, что по прошествии пятнадцати лет я узнал уже в Москве от покойного князя А. А. Шаховского, что этим не я один был одолжен князю Мещерскому, а весь театр русский; потому что князь Мещерский первый в России заговорил на сцене просто, тогда как вся прежняя школа (…) состояла из чтецов и декламаторов».
В 1816 году «театр в Курске расстроился», и Михаил Щепкин отправился в Харьков, где вошел в актерский коллектив под управлением известных антрепренеров Ивана Штейна и Осипа Калиновского.
«Мысль, что я буду играть в Харькове, приводила меня в восторг, – говорится в «Записках актера Щепкина». – Я знал, что в Харькове театр давнишний и что на нем играют все, к тому же там университет, поэтому публика должна быть образованнее, следовательно, и требования от актеров гораздо большие». Михайло Щепкин, как называли его там, участвовал во всех постановках театра: драмах, комедиях, трагедиях, водевилях, операх, феериях и даже балетах. Местная публика сразу же оценила мастерство молодого актера и стала ходить только «на Щепкина».

В 1818 году по приглашению генерал-губернатора Малороссии князя Николая Репнина-Волконского труппа приехала в Полтаву. Почти сразу же Михаил Щепкин перешел на службу в Полтавский театр. Репнин придумал выкупить крепостного актера у графини Волькенштейн – всего для выкупа нужно было 10 000 рублей (для сравнения, учитель зарабатывал в год около 1000 рублей). Чтобы собрать деньги, князь организовал спектакль, а после сам пожертвовал недостающую сумму. Через четыре года семья Щепкиных получила вольную.
В 1821 году Михаил Щепкин вернулся в труппу Штейна, который уже возглавлял Тульский театр. Однажды на ярмарке в городе Ровны его выступление увидел чиновник Конторы московских театров Василий Головин, которого прислали из Москвы «приобретать новые таланты для театра». Вскоре Щепкин получил приглашение в Москву.
На московской сцене Михаил Щепкин дебютировал в сентябре 1822 года. Сначала он выступал в театре на Моховой, затем – в Малом театре. Всего за два года Щепкин стал его ведущим артистом. Студент Виссарион Белинский писал родителям: «Лучший комический актер здесь – Щепкин: это не человек, а дьявол: вот лучшая и справедливейшая похвала его».
Вскоре слава Щепкина вышла за пределы Москвы. В 1825 году он впервые приехал в Петербург, чтобы выступить на сцене Александринского театра.
Михаил Щепкин мечтал вырваться из амплуа комического актера. По мнению исследователей, роль Городничего в «Ревизоре» стала главным событием творческой биографии актера. Он играл Городничего «русским темным человеком, темным на все, кроме умения обойти кого захочет». Гоголь был любимым писателем Щепкина.
…Несмотря на преклонный возраст, постепенную потерю памяти и слуха, Михаил Щепкин продолжал играть на сцене. Летом 1863 года врачи настояли, чтобы он переехал на юг. По пути в Крым Щепкин, несмотря на неважное самочувствие, все же давал спектакли – в Нижнем, Царицыне, Таганроге и Керчи. Прибыв в Ялту, Михаил Семёнович остановился в доме у своих друзей – управляющего императорским имением в Ливадии Я. Лазаревского и главного врача города Ялты С. Руданского. Казалось, в курортном городе у моря Щепкину стало лучше.
Вскоре князь Воронцов прислал за актером коляску, доставившую его в Алупкинский дворец. В тот вечер у Воронцовых собирались гости, и хозяева попросили Щепкина прочитать отрывок из «Мертвых душ» Гоголя. Во время чтения Михаилу Семёновичу стало плохо. Осмотревший его врач констатировал, что положение весьма серьезно. Перепугавшиеся Воронцовы отправили актера в гостиницу.
Верный слуга Щепкина Александр Алмазов вспоминал: «За три дня до смерти сознание Михаила Семёновича потеряно не было, несколько времени могли отвечать на вопросы, а иногда не могли… В это время Михаил Семёнович вдруг подзывают меня и спрашивают: «Александр, а куда Гоголь ушел?» Я им говорю: «Какой Гоголь?» – «Николай Васильевич». – «Он давно уже умер». – «Как умер? Давно ли?» – «Давно». – «Да, вот оно что…» Это были его последние слова. Отвернулся лицом к стене, чтобы больше не вставать».
В полдень 11 августа 1863 года Михаила Щепкина не стало. Отпевали его через два дня в ялтинском соборе. На панихиде присутствовал генерал-губернатор Тавриды Г. В. Жуковский.
«Он был великий артист, артист по призванию и по труду. Он создал правду на русской сцене, он первый стал нетеатрален на театре», – писал о Щепкине Александр Герцен.
Гроб с телом великого актера привезли в Москву на лошадях 20 сентября. 22 сентября его похоронили на Пятницком кладбище. Согласно последней воле Михаила Семёновича, он покоится рядом с могилой друга – профессора Тимофея Грановского.
Сергей Ишков.
Фото ru.wikipedia.org, culture.ru