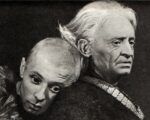14 августа 1937 года был осужден в особом порядке начальник Дмитровского исправительно-трудового лагеря НКВД Семён Фирин. Его признали виновным в подготовке переворота силами заключенных.

Старший майор госбезопасности Семён Фирин начиная с сентября 1933 года и практически до самого окончания строительства канала Москва – Волга, был начальником Дмитлага. Строительство канала было возложено на ОГПУ и осуществлялось вновь организованным Дмитровским лагерем.
Фамилию Фирина на Москваволгострое знали все. В 1932 году он был назначен начальником строительства Беломорско-Балтийского канала. На следующий год одновременно стал заместителем начальника ГУЛАГа Д. Бермана, а после окончания строительства был переброшен в Дмитровский ИТЛ. Впереди Фирина летели легенды и байки, которые рассказывались зэками на нарах и на общих работах.
Сын мелкого торговца из Вильно, он окончил местное двухклассное училище и на этом в графе «образование» поставил точку. Работал конторским мальчиком, подручным на обувной фабрике, затем был призван в царскую армию, дезертировал из нее (видимо, по идейным соображениям). Надо отметить, что Семён Фирин, несмотря на свое начальное образование, был далеко не невеждой. Он самостоятельно освоил шесть языков, знал литературу, неплохо писал.
В члены РКП(б) Семена Фирина приняли в 1918 году. В 1919 году Фирин был командиром партизанского отряда им. Розы Люксембург, военным комиссаром бригады Литовской советской дивизии, военным комиссаром управления снабжения 4-й стрелковой дивизии 15-й армии. С февраля 1920 года – помощник начальника агентуры политуправления спартаковской бригады, с октября – в распоряжении РВС Западного фронта. Фирин участвовал в боевых действиях против белогвардейцев и немцев в Вилкомирском и Паневежском районах, против белолитовцев и белополяков у городов Вилкомир, Уцяны, Новый Александровск. С сентября по ноябрь 1920 года принимал участие в боях против белополяков и белолатышей. 10 февраля 1919 года в бою под Кейдамантом был дважды ранен, а спустя полгода в бою у местечка Куркла получил тяжелую контузию.
С 1920 по 1930 год он служил в разведуправлении штаба РККА, был разоблачен иностранной разведкой и заключен в тюрьму, из которой бежал. Говорили, что Фирин перешел границу, добрался до Москвы к самому начальнику ОГПУ Генриху Ягоде и вышел от него с ромбами в петлицах. Начиная с 1931 года, Семён Фирин служил в особом отделе ОГПУ.
За беспощадную борьбу с врагами революции в 1925 году Фирин был награжден орденом Красного Знамени, в 1928 году – боевым оружием Реввоенсовета, в 1930 году – почетным, в 1923 и 1933 годах – знаками «Почетный чекист».
Как уже говорилось выше, перед Дмитлагом Семён Фирин работал начальником Белбалтлага. Создание ударных бригад скальщиков, перевод половины управленцев из теплых кабинетов на трассу строительства Беломорско-Балтийского канала, работа по «перековке» заключенных, «воспитание в них советского человека» – все это не могло остаться незамеченным. За успехи на строительстве канала Фирин был награжден орденом Ленина. В 1935 году, уже в Дмитлаге, ему присвоили очередное звание: старший майор госбезопасности.
По одним сведениям, новый начальник Дмитлага не скрывал своих симпатий к рецидивистам, по другим – не чурался 58-й статьи, приближая к себе одаренных и нужных людей, самолично решая все их проблемы. Говорили, что чекист любит культурный досуг и всячески поощряет художников, музыкантов и особенно «работников пера и бумаги», оказавшихся среди лагерного контингента. Любопытно, что на должность помощника Фирин выбрал сотрудника НКВД, которого звали Евгений Онегин.
С благословения Семёна Фирина культурно-воспитательный отдел Дмитровского ИТЛ организовал невиданный по своим масштабам выпуск лагерной периодики. Свыше шести тысяч «корреспондентов» писали заметки, стихи, рассказы и фельетоны. Главный печатный орган Каналстроя получил название «Перековка». Особой гордостью Семёна Фирина были ежемесячный журнал «На штурм трассы» и серийная «Библиотечка «Перековки». Оба этих издания выпускались при личном участии Максима Горького.
Горький считал помощь литераторам Дмитлага важной задачей. Стараясь способствовать интеллектуальному и эстетическому росту молодых «перековавшихся» лагерников, проявивших литературные способности, он неоднократно рецензировал и редактировал их произведения.
Отправляя Горькому литературный журнал Дмитлага, Фирин, как правило, просил писателя об отзыве. Так, 18 ноября 1934 года он писал: «…посылаю Вам №4 нашего лагерного журнала <…> Очень хотелось бы мне знать Вашу оценку журнала – тем более, что в нем помещены и материалы литературного конкурса. В частности, хотел бы я знать, правильно ли мы дали I премию Николаю Жигульскому? Мне лично его стихи «Моя бригада» очень понравились».
В 1933 году Жигульский был арестован и попал в Дмитлаг на общие работы. Он печатал стихи и очерки в лагерной прессе, а затем написал повесть, которую Фирин в марте 1934 г. отправил Горькому со словами: «Вы заинтересовались рассказом Жигульского «Мятель» и просили Вам его прислать для правки. Оказывается, рассказ-то разросся в целую повесть. Все же посылаю Вам это произведение».
Уже после смерти Горького Фирин писал: «Вся рукопись этого рассказа Жигульского испещрена любопытными поправками Алексея Максимовича. А на заглавном листе – ободряющая молодого писателя надпись».
В конце весны 1936 года Фирин отправил Горькому рассказ, написанный неоднократно судимым за воровство Михаилом Брилевым. 19 мая он писал Горькому: «Я Вам посылаю рукопись Михаила Брилева (рецидивиста), который, по-моему, написал занимательную повесть «Уксус». В этом ему литературно помог наш лагерный поэт Николай Жигульский. Мне кажется, что эта вещь Вас должна несколько обрадовать – она, по-моему, лучше многого из написанного до сих пор в лагере».
В рассказе «Уксус» раскрывалась история преступника с сильным характером, попавшего на строительство канала и долго сопротивлявшегося «перековке». Очевидно, она была построена на биографическом материале автора. Сам Брилев о себе сообщал: «В прошлом я – вор. В просторечии говоря, – жулик. И в мыслях никогда прежде не имел культурно и содержательно жить. И уж совсем, конечно, не мог думать о какой-либо литературной работе».
Кандидат филологических наук, и. о. завотделом изучения и издания творчества А. М. Горького Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Анастасия Плотникова в одной из своих статей сообщала: «Фирин уделял огромное внимание культурно-воспитательной работе и был увлечен проблемой «перековки» – превращения «социально опасных» людей в «социально полезных» средствами пропаганды. Получив высокий пост руководителя строительства и практически неограниченные ресурсы, он развернул культурно-воспитательную деятельность в полную силу, организовав большой специальный отдел – КВО. С одной стороны, это был мощный инструмент агитации среди лагерников, с другой – прибежище талантливых людей. У них появлялась возможность не участвовать в тяжелых работах, некоторым разрешалось привозить семьи и даже снимать отдельное жилье. Фирин переводил писателей и художников из других исправительно-трудовых лагерей, приглашал творческие кадры в качестве вольнонаемных. Благодаря усилиям Фирина лагерь имел 82 библиотеки, где насчитывалось 88 500 книг. В Дмитровском лагере выходило более 30 печатных изданий, в том числе на языках народов СССР. Особой популярностью пользовались ежедневная газета «Перековка», «женская» газета «Каналоармейка», литературно-художественный журнал «На штурм трассы», инженерно-технический «Москва – Волгострой», а также книжная серия «Библиотечка «Перековки», где печатались авторы из числа заключенных и вольнонаемных Дмитлага. В связи с двухлетней годовщиной функционирования газеты «Перековка» в приказе по Дмитлагу от 30 ноября 1934 г. было отмечено, что, начав с тиража 3000 экземпляров, редакция «довела его до 30 000 экземпляров, объединив вокруг себя около 5000 лагкоров». Кроме того, в лагере постоянно велась работа по поиску «самородков»: конкурсы песни, стихов, плакатов, смотры самодеятельности, слеты ударников и журналистов на канале и т. д.»
О героях строительства канала писали в журнале «Большевик»: «Выступая в 1934 году в клубе НКВД на торжественном собрании по поводу окончания строительства Истринского водохранилища тов. Каганович подчеркнул, что «канал (канал Москва – Волга. – С. И.) создается руками бывших воров, бандитов, вредителей, бывших врагов социалистического общества, которые через суровый, но полезный труд на трассе превращаются в сознательных борцов за канал – прекрасное детище второй пятилетки. (…) Бывшие уголовники-«тридцатипятники», герои Белморстроя, награжденные правительством орденами Трудового Красного Знамени, – Николай Ковалев, Анастасия Павлова, Борис Пинзбург – являют собой живое подтверждение необъятных возможностей большевистской исправительно-трудовой политики».

После выхода первого номера дмитлаговского литературно-художественного журнала «На штурм трассы» Семён Фирин стал практиковать редакционные планерки. Собирались вечером на даче начальника лагеря, засиживались допоздна. Это были даже не планерки, а, скорее, литературный салон – вроде тех, что устраивались в дореволюционной России, а Фирин видел такие на Западе.
Звезда Семёна Фирина стремительно закатилась в 1937 году, вскоре после ареста наркома внутренних дел Ягоды.
17 апреля 1937 года вода заполнила канал Москва – Волга на всем его протяжении, а 22 апреля стройку посетили Сталин, Ворошилов, Молотов и Ежов. Это был третий визит Сталина на канал, но в отличие от двух первых посещений впервые вместо Ягоды его сопровождал новый нарком внутренних дел.
28 апреля, всего за три дня до того, как по каналу прошел первый караван судов, старшему майору Фирину вручили приказ о переводе его в управление норильских лагерей и практически тут же взяли под стражу, предъявив обвинение в участии в антисоветском заговоре в органах НКВД и подготовке переворота силами заключенных Дмитровского исправительно-трудового лагеря.
На допросе 4 мая 1937 года, рассказывая следователям о вербовке сообщников, Генрих Ягода, арестованный 28 марта и обвиненный в совершении антигосударственных и уголовных преступлений, в «связях с Троцким, Бухариным и Рыковым, организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД, подготовке покушения на Сталина и Ежова, подготовке государственного переворота и интервенции», показал, что первоначально он завербовал начальника 3-го отдела Дмитлага, комиссара ГБ 3-го ранга Сергея Васильевича Пузицкого: «У меня с ним произошел следующий разговор: «Мы с вами, Пузицкий, чекисты, нас осталось мало, за вами столько заслуг, немногие об этом помнят, а дело идет к тому, что в стране возможны всякие перемены, идет борьба. Мы находимся в таком положении, что должны будем выбирать между новым руководством и старым и, в зависимости от обстановки, должны будем решить, и если силы будут на стороне новых руководящих кругов, то мы примкнем к ним». Пузицкий спросил, какие это новые руководящие круги я имел в виду. Я прямо ему сказал, что правые могут прийти к власти, и наша задача помочь им в этом. Пузицкий дал мне свое согласие. Ему я поручил сколотить группу из преданных ему людей».
Сам Пузицкий говорил на допросах следующее: «В середине 1935 года после ухода из Разведупра я был вызван Ягодой к нему в кабинет. Ягода сразу на меня накинулся с руганью, указав, что я занимаюсь беспробудным пьянством, совершенно не работаю и окончательно разложился, что он вынужден будет, в конце концов, принять по отношению ко мне решительные меры, вплоть до того, что передаст суду и поставит вопрос о моем пребывании в партии. Я начал просить его о том, чтобы он этого не делал, что я готов пойти на любую работу, куда он мне укажет, и готов выполнить любые его поручения. Ягода после этого перешел на несколько иные темы, начал мне рассказывать о том, что в стране создалось очень тяжелое положение, обвиняя в этом руководство партии и правительства. Продолжая в таком же духе, Ягода постепенно перешел к тому, что многое в советском строе нужно было бы изменить, что жизнь тогда потекла бы гораздо лучше и т. д. Когда я задал ему вопрос, что именно он понимает под словами «нужно изменить», он задал мне в свою очередь встречный вопрос, согласен ли я буду выполнять те поручения, которые он мне даст, направленные к тому, чтобы изменить существующее положение вещей. Я немедленно и охотно дал согласие. Ягода мне тогда рассказал о том, что существует контрреволюционный заговор, направленный против нынешнего руководства партии и правительства, что этот заговор возглавляется правыми, что в нем принимает участие целый ряд руководящих работников партии и правительства и что он сам является активным участником этого заговора. Основной целью этого заговора, как сказал мне Ягода, является смена руководства партии и правительства какими угодно средствами».
По словам Сергея Пузицкого, среди лиц, вовлеченных в заговор, Ягода назвал и Семёна Фирина. Контрреволюционная организация готовилась совершить теракты, для чего Ягода потребовал от Пузицкого подобрать группы террористов-боевиков, которые были бы ему беспрекословно преданы и были бы готовы к действиям в любую минуту.
«Ягода, когда давал мне задания о вербовке лиц для привлечения в террористические группы, указал, чтобы я старался в первую очередь подбирать лиц, чем-нибудь себя скомпрометировавших, для того, чтобы мог их держать в своих руках, – давал показания на следствии Пузицкий. – При моем назначении в Дмитров начальником 3-го отдела меня Ягода специально предупредил, что Фирин является участником заговора, доверенным и близким человеком его – Ягоды, и мне нужно во всей работе по заговору опираться на него. Ягода впоследствии дал мне указание держать Фирина и в курсе организации террористической группы на канале. (…) В Дмитлаге имеется громадное количество «тридцатипятников», все это лица, неоднократно судившиеся за уголовные и бандитские дела и посланные в Дмитлаг на «перековку». (…) Фирин мне неоднократно говорил, что для выполнения заговорческих задач, поставленных Ягодой, им проводится большая работа среди этого элемента, что им отобрана специальная группа среди крупных уголовников, которых Фирин тщательно обработал, выдвинул, приблизил к себе, окружил большим вниманием, создал им особые условия и привилегии на канале, особенно культивировал среди них непререкаемый авторитет Ягоды (…) Мне Фирин прямо сказал, что он по указанию Ягоды, в случае необходимости, в момент переворота двинет на Москву не менее 35 000 уголовников с канала, слепо идущих за ним».
Несколько недель в Дмитлаге и Управлении Москваволгостроя шли аресты «людей Фирина». Всего было привлечено 218 человек. Большую часть арестованных составляла уголовная «интеллигенция»: лагерные литераторы, художники, участники самодеятельности, которым Семен Фирин покровительствовал. Всем инкриминировалось участие в контрреволюционной террористической организации, а самому Фирину предъявили еще и обвинение в работе на иностранные спецслужбы и сдаче сети резидентуры во время пребывания в Германии в качестве помощника резидента разведки.
Позже, на июньском Пленуме ЦК ВКП(б), Николай Ежов подробно рассказал, какую роль должны были сыграть заключенные подмосковного Дмитлага: теракты ими должны были быть совершены при посещении членами правительства строительных объектов. Описывая сценарий захвата власти, Ежов цитировал показания Фирина: «В плане захвата власти Ягода отводил ответственное место силам Дмитлага. Ягода указал, что в лагере надо создать крепкий боевой резерв из лагерных контингентов. Для этого следует использовать начальников строительных отрядов из авторитетных в уголовном мире заключенных, так называемых «вожаков», чтобы каждый «вожак» в любое время мог превратиться в начальника боевой группы, состоящей из основного костяка заключенных из его же строительного отряда. Каждый начальник боевого отряда должен подчинить своему влиянию максимальное количество отборных головорезов-лагерников».
Обладая большой властью, Семён Фирин имел возможность помогать многим людям. Но в самый трудный момент их жизни он защитить их не смог. Более того, они погибли именно потому, что оказались рядом с ним. По «делу Фирина» были расстреляны более двухсот человек.
Фирин, бывший разведчик и опытный чекист, прекрасно понимал, что означал лично для него арест наркома НКВД Ягоды. Незадолго до своего ареста он неожиданно для всех отошел от дел, не занимался любимой своей «перековкой», не принимал зачастивших к нему по случаю скорого открытия канала писателей и журналистов. И хотя в центральных газетах еще появлялись его фотографии и хвалебные статьи, а на Красной площади в Москве красовался его большой портрет, Фирин понимал: конец неизбежен.
Возможно, он думал, что все же сумеет выжить: очевидцы событий в Дмитлаге вспоминали, что был приведен в состояние боевой готовности отдельный дивизион охраны, которым командовал Б. Кравцов. Но все это было наивно и нереально.
14 августа 1937 года Семёна Фирина осудили «в особом порядке» и в тот же день расстреляли. 23 декабря того же года его как врага народа уже посмертно исключили из партии.
Не пощадили и жену Фирина, Софью Залесскую, которая в 1920 году была курьером связи советской разведки, а в 1921 – 1922 годах – резидентом в Кракове. В 1933 году «за исключительные подвиги, личное геройство и мужество» она была награждена орденом Красного Знамени. Политрука Залесскую приговорили к расстрелу 22 августа 1937 года. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Их и реабилитировали практически вместе: Фирина – в 1956-м, его жену – в 1957-м. Все показания были признаны сфальсифицированными.
Также были реабилитированы и все 218 человек, проходившие по делу Фирина.
Сергей Ишков.
Фото ru.wikipedia.org