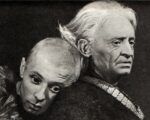21 августа 1929 года в Венеции, на острове Сан-Микеле, предали земле легендарного антрепренера Сергея Павловича Дягилева. Похороны оплатила Коко Шанель – хороший друг Дягилева, при жизни маэстро дававшая деньги на многие его постановки.

Поразительно, но поистине провидческой оказалась новелла Томаса Манна «Смерть в Венеции», написанная в 1914 году. В ней описаны личные переживания героя, которые были сродни дягилевским, и даже похоронный обряд, который спустя 15 лет осуществился наяву. И любовь Дягилева к Венеции тоже уже нашла свое объяснение в новелле: «Да и правда, какая же прелесть это сочетание благоустроенной жизни у южного моря с близостью, с постоянной доступностью таинственно-чудесного города».
Действительно, Сергей Дягилев любил встречаться с друзьями в Венеции, любил находить в лабиринте улочек и каналов какую-нибудь полузабытую церковь с потемневшими росписями великих итальянцев, любил посидеть в самом шикарном кафе «Флориан» на площади Святого Марка, а затем здесь же, на пристани, взять гондолу или сесть на маленький пароходик-вапоретто и отправиться через лагуну на остров Лидо. Ибо отдыхают не в самой Венеции. Центром роскошной курортной жизни является именно Лидо, большой остров, лежащий в двух километрах южнее Венеции и отделяющий грязные воды лагуны, плещущиеся у южной части города, от Адриатического моря.
Широко известно о том, что Дягилев боялся воды. Опасаясь морских путешествий и того, что сбудется пророчество цыганки, предсказавшей ему смерть на воде, он даже не отправился со своей труппой в турне в Южную Америку в конце лета 1913 года.
Светлана Гирс в своей статье о Сергее Дягилеве выдвинула предположение об источнике водобоязни у импресарио: после смерти матери мальчика было решено увезти из деревни Селещинки Новгородской губернии (сейчас деревня Селищи) в Петербург. Путь из Селещинок куда бы то ни было был только один – по воде на пароходе или лодке вверх по Волхову до деревни Волхово (сейчас Волхов Мост), а дальше по Николаевской железной дороге, которая проходила через эту деревню.
«Как раз наступило время половодья, Волхов был широк и неспокоен, и, я думаю, на маленького человечка это путешествие по воде произвело столь жуткое впечатление, что Дягилев всю свою дальнейшую жизнь, даже не отдавая себе отчета, почему, боялся воды, считая, что он умрет на воде», – пишет Светлана Гирс.

Так оно и случилось. Он умер в Венеции. И его последний путь, как и первый, пролег по воде.
Действие фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции», снятого по новелле Томаса Манна, происходит в том самом отеле «Grand Hotel bes Bains», в котором прожил свои последние дни Сергей Дягилев и в котором он скончался. Случайность?
Из дверей этого отеля и начался последний путь Сергея Павловича Дягилева. Его не стало 19 августа 1929 года. После окончания очередного сезона «Русского балета» он, как обычно, приехал отдыхать в Венецию.
«Он был болен, но врачи не могли точно определить причину его болезни, однако не видели в ней угрозы для его жизни, – рассказывает Светлана Гирс. – Он бесконечно устал от бешеного ритма своей жизни, от постоянной борьбы за зримое воплощение своего понимания нового искусства, стал сомневаться в правильности некоторых своих прежних утверждений. За несколько дней до отъезда в Венецию он встретился в Париже с критиком Р. Брюсселем. Речь шла о привлечении новых композиторов для «Русского балета». В статье, вышедшей уже после смерти Дягилева, журналист дал и его последний портрет: «Он повернул ко мне свое обрюзгшее, утомленное, опечаленное лицо, вставил в свой угасший глаз монокль, горестно сжал рот и сказал мне: «Довольно музычки».
В 1921 году у Дягилева диагностировали сахарный диабет. По воспоминаниям Игоря Стравинского, следовать диете он не умел, чтобы оставаться стройным, «морил себя голодовками», но постоянные стрессы часто «заедал» коробками конфет. Лечения инсулином не проводил, так как «боялся впрыскиваний».
Французский модельер и основательница модного дома Chanel Коко Шанель вспоминала: «Все-таки эти русские не такие, как все, их недостатки и их достоинства так переплетены, что легко переходят одно в другое. Щедрость души может превратиться в безалаберность, а та легко переходит в безответственность даже по отношению к себе самому. Дягилев много лет страдал от диабета, ему бы беречься и питаться осторожно, особенно в последние годы, когда стало ясно, что болезнь зашла слишком далеко. Он сидел на диете, не позволяя себе ничего сладкого… шесть дней с понедельника по субботу, зато в воскресенье с чувством исполненного долга объедался сладостями и при этом выглядел как толстый довольный кот. А еще Дяг мог запросто съесть коробку конфет, если сильно волновался. Волноваться Сержу приходилось часто… К 1929 году он стал по-настоящему плох. (…) Я привыкла видеть Дягилева полным сил, даже когда тот засыпал прямо в кресле партера, окончательно устав от репетиций; стоило открыть глаза, и он начинал действовать. Теперь перед нами лежал совершенно разбитый, обессиленный человек, в летнюю жару дрожавший под одеялами. Серж Лифарь и Борис Кохно сделать ничего не могли (Сергей Лифарь – артист балета, до 1929 года танцевал в «Русских сезонах» Дягилева; Борис Кохно – театральный деятель, секретарь и помощник Дягилева. – С. И.)».

В 1927 году у Сергея Павловича развился фурункулез – смертельно опасное состояние, способное привести к сепсису, а антибиотики тогда еще не были известны. Летом 1929 года в Париже доктор Далимье предписал Дягилеву соблюдать диету и много отдыхать, предупредив, что несоблюдение рекомендаций повлечет за собой опасные последствия для его здоровья. Проигнорировав это предписание, Сергей Павлович отправился с труппой в Берлин, затем в Кёльн и через Париж – в Лондон, где вновь посетил врача, посоветовавшего ему нанять медсестру, что также не было сделано: за ним ежедневно ухаживал Кохно, делая необходимые процедуры и перевязки.
Отправив труппу в отпуск и вернувшись в Париж, Дягилев вновь посетил Далимье, который настаивал на курсе лечения термальными водами в Виши. Вместо этого Дягилев вместе со своим протеже Игорем Маркевичем предпринял «музыкальное» путешествие вдоль Рейна, посетив Баден-Баден, Мюнхен и Зальцбург.
Расставшись с Маркевичем в Веве, 7 августа Сергей Павлович отправился в Венецию. Из-за абсцессов у него началось заражение крови, и, начиная с 12 августа, Дягилев больше с постели не вставал. За ним ухаживал Сергей Лифарь.
16 августа к Сергею Павловичу приехал Борис Кохно, а 18-го импресарио посетили пианистка, хозяйка литературного и музыкального салона Мися Серт и Коко Шанель. Вечером того же дня к Дягилеву пришел священник. Ночью температура у Сергея Павловича поднялась до 41 градуса, он больше не приходил в сознание и на рассвете умер.
Сезон 1929 года, как и многие другие, не принес Дягилеву денег, и когда он внезапно умер, выяснилось, что его не на что хоронить. На помощь, как и раньше, во время балетных сезонов, пришли его близкие приятельницы – Мися Серт и Коко Шанель.
«Я заплатила его долги, помогла с похоронами, но деньги не могли вернуть и частичку этого потрясающего человека, – говорится в книге «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой». – На кладбище мы с Мисей стояли, прижавшись друг к дружке, словно две сироты. И все же я пресекла дурацкую выходку Лифаря и Кохно, которые вознамерились ползти вслед за гробом на коленях, как в каком-то романе у их русского писателя Достоевского. Глупость, словно этим измеряется любовь к ушедшему Дягу. Мися со слезами показывала мне на парней:
– Не могу убедить их отказаться от этой затеи. Грозят вообще лечь следом в могилу.
Я спокойно и тихо сказала:
– Встать.
Лифарь и Кохно со вздохами подчинились».
На Лидо не было ни православной церкви, ни действующего кладбища.
«Всех умерших в Венеции хоронили и хоронят до сих пор на другом острове, острове мертвых – San Michele, расположенном севернее Венеции, а православная церковь, принадлежавшая греческим ортодоксам, находилась в самой Венеции, – пишет Светлана Гирс. – Поэтому для похорон было заказано несколько гондол: одна большая, отделанная золотом, для гроба, остальные, обычные, для провожающих».
Как тут снова не вспомнить Томаса Манна, который в «Смерти в Венеции» писал: «Кто не испытывал мгновенного трепета, тайной робости и душевного стеснения, впервые или после долгого перерыва садясь в венецианскую гондолу? Удивительное суденышко, без малейших изменений перешедшее к нам из баснословных времен, и такое черное, каким из всех вещей на свете бывают только гробы, – оно напоминает нам о неслышных и преступных похождениях в тихо плещущей ночи, но еще больше о смерти, о дрогах, заупокойной службе и последнем безмолвном странствии. И кто мысленно не отмечал, что сиденье этой лодки, гробово-черное, лакированное и черным же обитое кресло, – самое мягкое, самое роскошное и нежащее сиденье на свете?»

Как вспоминал Сергей Лифарь, 20 августа гроб с телом Дягилева на руках вынесли из отеля по парадной лестнице и, погрузив его на ручную тележку, отвезли к пристани острова Лидо, где поставили на гондолу. Гондолы пересекли лагуну и, дойдя до Венеции, поплыли вдоль южного ее побережья. Подойдя к набережной Riva degli Schiavoni, гондолы прошли под мостом рядом с церковью Ciesa della Pieta и поплыли по каналу Rio della Pieta. На берегу этого канала и находилась небольшая ортодоксальная греческая церковь Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, в которой должно было состояться отпевание Дягилева.
В ночь с 20 на 21 августа гроб с телом импресарио оставался в этой церквушке, а 21-го утром была отслужена панихида. После этого гроб снова погрузили на гондолу, и траурный кортеж двинулс и, наконец, по каналу Rio di San Giustina вышел в Адриатическое море. Впереди была видна конечная цель плавания – остров San Michele, который невозможно было спутать ни с одним другим островом из-за растущих на нем многочисленных кипарисов – символов скорби.
«Гондолы причалили к небольшой пристани, и гроб на руках понесли на греческую ортодоксальную часть кладбища, находящуюся в юго-восточной части острова, – пишет Светлана Гирс. – Через несколько лет на могиле был установлен памятник, представляющий собой стоящую на каменной плите усеченную пирамиду, на которую опираются четыре небольшие колонны, поддерживающие купол. На фронтальной части пирамиды на русском и французском языках написано: Сергей Павлович Дягилев, Serge de Diaghilev и даты – 1872 – 1929. (…) Когда я позволила себе снять многочисленные подношения Дягилеву: цветы, балетные туфли и даже лапоть, лежавшие на верхней части усеченной пирамиды, то увидела надпись: «Венеция – постоянная вдохновительница наших успокоений». Это отрывок фразы, которую написал С. П. Дягилев Сергею Лифарю, подарив ему записную книжку в 1926 году. (…) Могила Дягилева расположена вплотную к кладбищенской стене, отделяющей берег острова от моря, столь ненавистного ему при жизни и, вероятно, не дающего ему окончательно успокоиться».
На том же кладбище рядом с могилой Дягилева находится могила композитора Игоря Стравинского, а также поэта Иосифа Бродского.
«Умирая и возрождаясь, они творили, они были равны Творцу, – писала Коко Шанель о русских – Дягилеве, Нижинском, Стравинском, Баксте. – «И смертью смерть поправ…» – может, это о них, русских, заставивших Париж рыдать и смеяться, бешено аплодировать или свистеть, но снова и снова возвращаться, чтобы оказаться свидетелями создания чуда? Я поняла – они гениальны, потому что не боятся отдавать все ради творчества и делать это, пока живы».
Сергей Ишков.
Фото ru.wikipedia.org