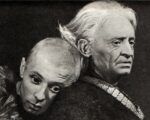6 ноября 1982 года стартовала полярная экспедиция газеты «Советская Россия», участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий – 10 тысяч километров.

Эту научно-спортивную полярную экспедицию ее участники посвятили 60-летию образования Советского Союза. Решение об организации похода было принято Свердловским обкомом комсомола, редколлегией газеты «Советская Россия» и Уральским научным центром академии наук СССР в преддверии XIX съезда ВЛКСМ.

В маршрутнике экспедиции под заголовком «Великой северной тропой» сообщалось: «В канун XIX съезда комсомола бюро Свердловского обкома ВЛКСМ и редколлегия газеты «Советская Россия» приняли совместное решение об организации полярной экспедиции по евразийскому континенту от Тихого до Атлантического океана. Утверждены оргкомитет, штаб по подготовке и состав участников экспедиции, программа их работы».
В состав маршрутной группы экспедиции вошли шестеро: руководитель – 32-летний старший инженер института экономики УНЦ Сергей Соловьев; 42-летний каюр-проводник, рабочий Хорей-Верской нефтегазодобывающей экспедиции Архангельской области Филипп Ардеев; 29-летний старший инженер института геофизики УНЦ, штурман Павел Смолин; 38-летний кинофотооператор, заведующий отделом публицистики журнала «Уральский следопыт» Юрий Борисихин; 36-летний электровакуумщик машиностроительного завода города Свердловска, радист Владимир Карпов и 34-летний врач-терапевт 4-й Свердловской железнодорожной больницы Владимир Рыбин.
Кроме основного отряда в экспедиции было еще два вспомогательных – по три человека в каждом. В переходе эти люди не участвовали, но поддерживали радиосвязь с основным отрядом и обеспечивали подготовку продовольствия в базовых лагерях экспедиции.
Перед стартом руководитель оргкомитета экспедиции дважды Герой Советского Союза, почетный полярник СССР Иван Папанин заявил: «Я знал и чувствовал, что такая экспедиция должна рано или поздно состояться. Мы просто обязаны терпеливым, мужественным и хозяйским взглядом окинуть побережье. Это ведь северный порог нашего дома. И я рад, что взгляд этот будет взглядом молодых ученых, личные и научные интересы которых тесно смыкаются с задачами, поставленными им научными и партийными органами».
Как рассказывается в «Уральском следопыте», немалую роль в подготовке и организации полярной экспедиции сыграл закрытый и секретный в то время город Свердловск-45 (ныне Лесной). Там на комбинате «Электрохимприбор», крупнейшем оборонном предприятии Советского Союза, было изготовлено практически все снаряжение для экспедиции.
Первоначально экспедиция намеревалась стартовать 15 октября 1982 года, чтобы до декабрьских метелей пройти Чукотку и до январских морозов – полюс холода в Якутии. Также планировалось, что до весны участники экспедиции минуют Таймыр и по большеземельской тундре в полярный день выйдут к Баренцеву морю. Однако неожиданная долгая пурга задержала старт экспедиции на 20 дней.
Полярная экспедиция 1982 года многими признается уникальной по протяженности полярного маршрута и по сочетанию различных неблагоприятных для ее участников факторов. Основной заявленной целью похода были медицинские исследования: важно было выяснить, какие изменения происходят в человеческом организме под действием длительных неблагоприятных факторов. Председатель президиума Уральского отделения академии наук СССР академик Сергей Вонсовский так и сказал: «Ваша главная задача – выжить! И если при этом вам удастся пройти хотя бы половину маршрута, это будет научный подвиг». Задачу полярники выполнили.
Итак, экспедиция стартовала 6 ноября 1982 года, значительно позже ранее намеченного срока. Приказ №1 гласил: «Маршрутной группе в 6.00 выйти направлением Уэлен – Мурманск. Расстояние – 10 000 километров. Объявляется полное единоначалие. Устанавливается сухой закон. Обращение между участникам только на «вы» и только по имени-отчеству. При обсуждении спорных ситуаций высказываться по старшинству. Не терять из видимости переднюю и заднюю нарты. Зеленая ракета – внимание, красная – опасность».
Юрий Борисихин вел дневниковые записи: «Сразу открылись классические арктические виды. Над океаном завис плотный туман, солнце едва просвечивало, видимость – метров тридцать, не больше. Снег мерцал, слепя. (…) Пурга. Сидим в избушке. Метет низом. Небо в прорывах голубое, но внизу видимость нулевая. Пробовал снимать, но пленку не тянет. Долго возился с камерой. Наконец пленка пошла. (…) Много едим. Едим сойку мороженую! Она тает во рту, как масло; варим уху – за день съели почти таз. Очень много говорим об этике, о том, как вести себя с северным народом; говорим о медведях – сообщили, что их штук сорок пасется около выброшенной туши кита недалеко от Колючинской губы. (…) Сегодня белый медведь охраняется законом. Нам просто нужно посторониться. Но как? А никак! Пока ведь и страха нет. Просто не будем делать больших глаз, пока чист горизонт. День практически темен весь, пишу при лампе. Сергей долго возится в углу с бумагами. Вечером вдруг просит нас послушать, что у него получилось. Он написал в «Советскую Россию» репортаж о переходе. Вроде неплохо. Диктовал Сергей до 5 утра. Каждое слово Карпов выкрикивает трижды: плохая проходимость радиоволн».
Чтобы увеличить скорость продвижения, участникам экспедиции пришлось отказаться от громоздкой палатки. Спали каждый в своей малице, которую ненцы называют еще куропачьим чумом («жилище в снегу»): «Капюшон – вместо подушки, снизу завязал – и дом готов!»
Сначала моржатиной кормили ездовых собак, потом пришлось есть ее и самим. Юрий Борисихин поделился в дневнике впечатлениями от блюда: «Варево пованивает. Бульон – с песком, камешками. Шкуру дочиста не оскоблишь. Моржатина не показалась самым худшим в мире продуктом. Пахнет, конечно, но и тепло почувствовал сразу. Паша, Карпов и Филипп пробовать наотрез отказались. Рыбин вроде занял научную позицию, то есть наблюдателя. Ночью же Паша с Карповым все-таки отведали варева. Не прикоснулся к моржатине один Филипп. Тогда мы еще не знали, что одолели очень важный барьер. Когда откажемся от огня, то поможет нам выжить именно моржатина, готовность делить с собаками одну и ту же пищу».
Температура воздуха на маршруте вдоль побережья Северного Ледовитого океана достигала минус 50 градусов. Ветер – до 25 метров в секунду – сбивал с ног. По ощущениям, было не минус 50, а где-то минус 72 градуса. Постоянно шел снег, а чуть позже ко всем этим «прелестям» добавилась еще и полярная ночь.
Двигаясь по Чукотке, в самом начале пути участники полярной экспедиции были вынуждены по очереди топтать лыжню в снегу, который был глубиной по пояс, собаки шли следом. Однако снег все равно не выдерживал тяжело нагруженных нарт. То и дело путешественникам приходилось вытаскивать провалившиеся в снег сани.
Для того, чтобы не выбиться из графика окончательно, участникам экспедиции пришлось отказаться от всего «лишнего»: спальных мешков, тяжелых примусов и канистр и т. д. Нарты стали легче, но вот от горячей пищи пришлось отказаться.
На белье путешественники надевали длинную одежду из оленьего меха с капюшоном и варежками, а ближе к весне перешли на кухлянку – короткую куртку из оленьего меха. На ноги надевали плотно облегающие брюки-сапоги из меха нерпы. Чтобы не замерзнуть, спали мало. Кроме того, короткий сон экономил время – ведь экспедиция и так шла не по графику.
О том, как трудно было расставаться с вещами, рассказывал потом Юрий Борисихин: «Вечером перетряхивали рюкзаки – намокнув и обледенев, они явно перегружали нарты. Что же убрать? Свитер, гревший меня на вершинах Кавказа, Памира, Приполярного Урала? Варежки, связанные мамой? Шарф, сотканный руками дорогой мне женщины? Нет, от этих вещей не отказаться: явственно услышал мощный внутренний протест. Только Сергей отвернулся, я покидал все обратно в рюкзак, завязал поспешно. Ах тряпичники мы, тряпичники! Почти за месяц мы проклюнулись едва к двумстам километрам из двух тысяч, положение крайне угрожающее, нужно (нужнейше!) облегчить нарты, но я будто прирос к варежкам, шарфам. Слаб человек против вещи. Слаб. Сергей, видя мучения наши, незнакомо усмехнулся – одними глазами, – потребовал выставить все шесть рюкзаков как бы на смотр и приказал лишнее отнести на почту. Вот и все, поплывут наши запасные вещички тихим посылочным ходом в базовый лагерь. На нартах остался корм для собак, у меня – плюс фотоаппаратура, канистра для керосина, аптечка».
В декабре Юрий Борисихин записал в дневник: «Хлеб и строганина – обед, ужин, завтрак. Хлеб окаменел. Володя попытался разрубить его топором, но булка разлеталась на мелкие кусочки. Я нашарил что-то в снегу, добавил несколько кусочков сахара, с тем улегся».
В этом же месяце путешественники впервые увидели северное сияние.
«Неожиданно все стихло. Над головой я, скорее, ощутил, нежели увидел что-то необычное: прямо на нас шли широкие цветные бесшумные ленты. Северное сияние! Близкое, нацеленное прямо в меня!
Однажды летом, в селе, попал в сильную грозу. Молнии падали в сырую траву, извиваясь, подползали к самым ногам. У меня тогда шевелились волосы на голове. Сейчас они тоже словно потрескивали, казалось, мы с заснеженными нартами и собаками лишние тут, сейчас нас бесшумно срежет, растворит.
С начала – страх, потом – удивление, потом – очарование фантастической игрой света», – рассказывал в своих заметках Борисихин.
В январе участникам экспедиции посчастливилось увидеть уникальное северное сияние, именуемое короной: «Над головами вспыхнул шатер. Сияние исходило из конуса. Белый шар как бы выстреливал пласты света, они мгновенно меняли окраску: зеленая, желтая, алая, синяя… Полыхало небо бесшумно. Наше оцепенение шло, видно, от ожидания грома, треска, разлома неба самого: не могла же, в самом деле, природа в таком безмолвии творить этот ослепительный танец. Даже малый просверк молнии на материке вызывает гром! А здесь – при невероятном буйстве красок – слышишь, как собаки позвякивают карабинчиками.
Корона – редкое явление в Арктике. Старался запомнить бег цветов, впечатление. Но кроме того, что никому никогда, кроме шестерых, природа не повторит именно этого космического залпа, я ничего не испытывал. И еще более легкое сожаление, что завтра закрутит пурга. А нам не нужна пурга! Хотя мы идем стабильно по 50 с лишним километров в сутки, по графику должны уже быть в Якутии. Скорость мала!»
Между тем уже все были обморожены: у кого ноги, у кого руки, у Рыбина – нос…
«Тундра вызывает раздражение своей бесконечностью, неприветливостью, и я снова с огорчением подумал, что не могу прогнать это наваждение, – вел свои записи Юрий. – Хотя понимал, что рано или поздно смирюсь с тундрой. Я ждал момента, когда она начнет мне нравиться. (…) Местность фантастическая: сопки в твердых снежных пупырях, световые пирамиды».
Руководитель экспедиции Сергей Соловьев говорил: «Погибать нельзя! Это – остановка экспедиции. А нам нужно быть в Мурманске. Значит, выбора нет: надо уцелеть, надо быть в Мурманске!»
И они дошли. Все шесть человек. Собаки весь путь не выдержали, их несколько раз меняли.
Порой на выручку путешественникам приходили представители коренных народов Севера.
Полярная экспедиция газеты «Советская Россия» завершилась в Мурманске 6 июля 1983 года.
21 июля 1983 года тысячи жителей Свердловска вышли приветствовать вернувшихся домой участников экспедиции, которые на собачьих упряжках проехали по проспекту Ленина – главной улице города.
В общей сложности путешественники шли 243 дня. В течение всего периода на связь с экспедицией постоянно выходили радиолюбители из многих стран мира. Ее участники, как уже говорилось выше, проводили медико-биологические исследования того, как меняется состояние человеческого организма в условиях длительного нервного и физического напряжения. Кроме того, велись геомагнитные измерения – составление карты геомагнитного поля и проверка стабильности радиосвязи в условиях Крайнего Севера. Данные, которые путешественники получили в 1982-1983 годах, до сих пор используют научные и медицинские работники, занимающиеся полярными исследованиями.
В 1984 году была издана книга об этом уникальном путешествии – «10 000 километров Полюса недоступности», занявшая первое место в конкурсе лучших книг для молодежи.
Мужество участников экспедиции в преодолении трудностей высоко оценил Иван Папанин, лично встречавший их в Белом море на палубе научно-исследовательского судна «Иван Киреев».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1983 года за активное участие в подготовке и успешное осуществление полярной экспедиции газеты «Советская Россия» все участники маршрутной группы были представлены к государственным наградам.
Сергей Ишков.
Фото museum-lesnoy.ru