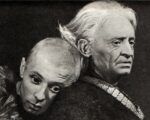15 июля 1841 года в окрестностях Пятигорска состоялась дуэль поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым, завершившаяся гибелью поэта. Во время своего последнего проезда через Москву Лермонтов в беседе со славянофилом Юрием Самариным вдруг сказал о своей скорой кончине. Самарин посчитал эти слова обычной шуткой со стороны поэта.

В Тенгинский полк поручик Лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов был отправлен после дуэли с сыном французского посла в России Эрнестом де Барантом. Они поссорились 16 февраля 1840 года на балу у графини Александры Лаваль в ее особняке на Английской набережной в Петербурге. Причиной дуэли, случившейся через два дня, светские сплетницы насчитали «несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств» Лермонтова, а также «спор о смерти Пушкина». Поединок прошел в том же месте, где Александр Сергеевич стрелялся с Дантесом, на Чёрной речке.
О дуэли сразу же доложили Николаю I, отнесшемуся к поступку Лермонтова на удивление спокойно. Государь сказал, что если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается.
13 апреля 1840 года суд огласил решение о переводе Лермонтова в Тенгинский пехотный полк, участвовавший в военной экспедиции на Кавказе.

К дуэли Лермонтова и Мартынова привела ссора, случившаяся 13 июля 1841 года в доме генерала Верзилина. Гости оживленно беседовали. Лермонтов расположился на диване с дочерью хозяйки Эмилией Александровной. В другом конце залы на фортепиано играл князь Сергей Трубецкой. Рядом разговаривали Николай Мартынов и Надежда Петровна Верзилина. Кивнув в сторону Мартынова, Лермонтов, обращаясь к своей собеседнице, пошутил: мол, будьте осторожны, общаясь с этим страшным горцем. Как раз в этот момент Трубецкой перестал играть, и слова Михаила Юрьевича отчетливо прозвучали в зале. Гости рассмеялись. Самолюбие Мартынова было задето. Дело усугубило то, что там находилась дама, к которой Николай Соломонович был неравнодушен. Мартынов вышел из себя и заявил Лермонтову, что долго терпел его издевки, но теперь – хватит. Поэт всерьез слова Николая Мартынова не воспринял. Как ни в чем не бывало, он повернулся к своей собеседнице и сказал: «Такое бывает. Завтра мы помиримся и станем добрыми друзьями».
Но после вечера, когда Лермонтов и Мартынов вышли из дома Верзилина, между ними состоялся разговор на повышенных тонах. Поэт не постарался сгладить конфликт, извиниться перед Николаем Соломоновичем за свою бестактность. В итоге Мартынов вызвал его на дуэль. Ближайший друг Мартынова корнет Михаил Глебов упрашивал его отказаться от поединка, но тщетно (позже он будет его секундантом).
Михаил Лермонтов и Николай Мартынов учились в одно время в школе юнкеров в Петербурге. Но они могли познакомиться и раньше, так как усадьба Мартыновых Знаменское соседствовала со Середниковым, где любил проводить время юный Лермонтов. Так или иначе, после выхода из школы юнкеров Лермонтов и Мартынов приятельствовали.
Когда Николай Соломонович служил на Кавказе, Лермонтов общался преимущественно с женской половиной этой семьи, проживавшей еще и на даче в Петровском. Был у Мартыновых и свой дом в Москве, рядом с Тверской, в Леонтьевском переулке.
«У Мартынова к тому времени оставались две незамужних сестры – Юлия и Наталья, с именем последней связывают даже неудачное сватовство Лермонтова, – рассказывает в статье «Далеко мальчик пойдет…» литературовед Александр Васькин. – Наталья к Лермонтову относилась с симпатией. Но ее мать Лермонтова не любила и, видимо, расстроила радужные планы молодых людей. (…) Екатерине Лермонтов посвятил новогодний мадригал «Мартыновой».
В предисловии к роману Бориса Садовского «Пшеница и плевелы» о Лермонтове и Мартынове историк Сергей Шумихин пишет: «Принадлежа по рождению и воспитанию к тому же обществу, что и Лермонтов, Николай Соломонович Мартынов значительно превосходил последнего успехом своей служебной карьеры. Будучи годом моложе Лермонтова, он вышел в отставку с чином майора, тогда как Лермонтов был только поручиком. О храбрости Мартынова свидетельствовало боевое отличие, сверх всего он, по описанию одного из современников, «был очень красивый молодой гвардейский офицер, высокого роста, блондин. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел романсы и все мечтал о чинах, орденах и думал не иначе как дослужиться на Кавказе до генеральского чина». Писал Мартынов и стихи, даже недурные, то есть посредственные, чего для успеха в салоне было более чем достаточно. На наш взгляд, психологически невозможна гипотеза автора новейшего романа о Мартынове и Лермонтове «Каинова печать» А. Родина, который приписывает Мартынову зависть к поэтическому гению Лермонтова, некий сальериевский комплекс, разрешившийся дуэлью…»
В биографии Николая Мартынова есть один очень интересный факт, который можно считать судьбоносным: после выпуска из школы юнкеров в декабре 1835 года корнетом он служил в одном кавалергардском полку с Дантесом.
«Что же это за полк такой, если в нем служили убийцы двух великих русских поэтов, специально, что ли, их туда подбирали? – задается вопросом Александр Васькин. – (…) В феврале 1841 года Мартынов вышел в отставку в чине майора и в апреле приехал в Пятигорск (возможно, что причинами отставки были его картежные дела). «Вместо генеральского чина он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молчаливый», – вспоминал о нем служивший на Кавказе Яков Костенецкий. Не добившись успеха на службе, Мартынов искал его у женщин. Но и там его ждало разочарование: «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив; карикатуры на него беспрестанно прибавлялись; Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом; он его назвал при дамах m-r le poignard и Sauvage’ом (господином кинжалом и дикарем). Мартынов тут ему сказал, что при дамах он этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел (…) Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупый вызвал Лермонтова…», – свидетельствовала Е. Быховец. (…) Мартынов пытался заслужить внимание прекрасного пола своими стихотворными опусами. Он совершенно искренне полагал, что между его стишками и лермонтовской поэзией не было никакой разницы».
Еще в школе юнкеров Николай Мартынов, как и Лермонтов, писал в рукописный литературный журнал «Школьная заря». Писал он и находясь на Кавказе. Лермонтов отвечал Мартынову карикатурами, которых хватило на целую тетрадь, ходившую по рукам, и эпиграммами, такими как «Скинь бешмет свой, друг Мартыш» и «Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон»:
Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон,
Но Соломонов сын,
Не мудр, как царь Шалима, но умен,
Умней, чем жидовин.
Тот храм воздвиг и стал известен всем
Гаремом и судом,
А этот храм, и суд, и свой гарем
Несет в себе самом.
Декабрист Николай Лорер, который в том же 1841 году оказался на Кавказе, писал: «Мартынов утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов по складу ума своего был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо, но вода и камень точит, и, когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их».
…В день дуэли над горой Машук была страшная буря. Очевидцы вспоминали, что Мартынов, подойдя к барьеру и видя, что Лермонтов опустил свой пистолет и не хочет стрелять, закричал ему:
– Стреляй, а не то убью!
– Я не имею обыкновения стреляться из-за пустяков, – отвечал Лермонтов.
– А я имею обыкновение, – возразил Мартынов и стал целиться.
Он так долго целился в поэта, не поднимавшего пистолет, что свидетели закричали ему: «Стреляйте же, или мы вас разведем!»
Лермонтов якобы произнес: «Я в этого дурака стрелять не буду». По другим данным, кто-то сказал: «Надо же кончать, мы и так насквозь промокли» (шел дождь, разразилась гроза).
По словам князя Александра Васильчикова, Михаил Юрьевич всю дорогу к месту дуэли шутил, говорил, что сам стрелять не будет, да и Мартынов стрелять не станет. Даже когда заряжали пистолеты, Лермонтов продолжал шутить. Между тем, Васильчиков по лицу Мартынова видел, что тот стрелять будет, и предупредил поэта, что это все далеко не шутка. И вот Мартынов выстрелил. Лермонтов упал.
«Как будто его скосило на месте, не сделав движения ни назад, ни вперед, – вспоминал князь Васильчиков. – Пуля пробила его сердце и легкие. Буря грохотала и скорбно выла, гром оглушительно гремел, и молния ослепительно сверкала».
В официальном сообщении о смерти поэта говорилось: «15-го июля, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов».
Николай I, узнав о случившемся, разразился гневной тирадой: он ненавидел дуэли, да и поэтические колкости поручика давно вызывали его раздражение. В своих воспоминаниях Павел Петрович Вяземский отметил, что Николай I сначала сказал: «Собаке – собачья смерть». По другим свидетельствам: «Туда ему и дорога!». Однако после того, как великая княгиня Мария Павловна «отнеслась к этим словам с горьким укором», император, выйдя в другую комнату, объявил: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит».
После случившегося Мартынов отправился в комендатуру Пятигорска и сдался властям, заявив о дуэли и ее результате. Военно-полевой суд приговорил Николая Соломоновича к разжалованию и лишению состояния, однако император заменил эту относительно суровую кару на трехмесячный арест на гауптвахте и церковное покаяние.
Гауптвахта была для Мартынова не наказанием, а спасением от гнева общества, обрушившегося на него как на убийцу великого поэта. Затем его отправили в Киев на покаяние на 15 лет. Позже приговор смягчили. После отмены церковного наказания – епитимьи в 1846 году Мартынов довольно быстро женился на «прехорошенькой польке» Софье Проскур-Сущанской. Жили они и в Москве, в Леонтьевском переулке, и в подмосковном имении Знаменское, родили 11 детей.
…Похороны Лермонтова прошли 17 июля 1841 года на старом пятигорском кладбище. Так совпало, что гроб с телом Михаила Юрьевича несли на своих плечах представители всех полков, в которых поэту пришлось служить.
Москву печальная весть всколыхнула 26 июля. Первым, кто прочитал письмо о трагедии, был московский почт-директор Александр Булгаков. Ему написал сослуживец Лермонтова князь Владимир Голицын. Булгаков отметил в дневнике: «Странную имеют судьбу знаменитейшие наши поэты, большая часть из них умирает насильственною смертью…»
3 августа 1841 года славянофил Юрий Самарин писал петербургскому приятелю Лермонтова Ивану Гагарину: «Пишу вам, мой друг, под тяжким впечатлением только что полученного мною известия. Лермонтов убит Мартыновым на дуэли на Кавказе. Подробности ужасны. Он выстрелил в воздух, а противник убил его, стрелял почти в упор. Эта смерть после смерти Пушкина, Грибоедова и других наводит на очень грустные размышления. Смерть Пушкина вызвала Лермонтова из неизвестности, и Лермонтов, в большинстве своих произведений, был отголоском Пушкина, но уже среди нового, лучшего поколения».
Николай Мартынов дожил до 60 лет. Почти через 30 лет после свершившейся трагедии он взялся за перо, чтобы хоть как-то исповедоваться: «Я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть откровенным признанием самых заветных помыслов и движений сердца по поводу этого несчастного события. Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел. Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека. Как писатель, действительно, он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод и как мало окружающая его обстановка способствовала к серьезным занятиям, то становится едва понятным, как он мог достигнуть тех блестящих результатов при столь малом труде и в таких ранних годах. Перейдем к его характеру. Беспристрастно говоря, я полагаю, что он был добрый человек от природы, но свет его окончательно испортил. Быв с ним в весьма близких отношениях, я имел случай неоднократно замечать, что все хорошие движения сердца, всякий порыв нежного чувства он старался так же тщательно в себе заглушать и скрывать от других, как другие стараются скрывать свои гнусные пороки. Приведу в пример его отношения к женщинам. Он считал постыдным признаться, что любил какую-нибудь женшину, что приносил какие-нибудь жертвы для этой любви, что сохранил уважение к любимой женщине: в его глазах все это было романтизм, напускная экзальтация, которая не выдерживает ни малейшего анализа».
Мартынов не раз говорил об истинных, на его взгляд, причинах дуэли, ставя в вину Лермонтову ухаживания за его сестрой, а также якобы вскрытие поэтом его личной переписки.
«Последний довод так и не получил подтверждения, – пишет литературовед Александр Васькин. – Суть его в том, что, когда в 1837 году Лермонтов покидал Пятигорск, где в это время проводила лето семья Мартыновых, они вручили ему пакет с письмами для сына, Николая Соломоновича. Интересуясь мнениями Мартыновых о себе, Лермонтов якобы распечатал пакет; однако он не знал, что в него были вложены 300 рублей; возвращая их Мартынову, он был вынужден сказать, что пакет у него украли. Эта версия неоднократно повторялась самим Мартыновым и сочувствующими ему людьми и была опровергнута исследователями творчества Лермонтова более чем через сто лет после его гибели».
Успокоения Николай Мартынов не знал до конца своих дней и даже после смерти. Вот как описывает его старость московский городской голова князь В. М. Голицын: «Жил он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку «Статуя Командора». Каким-то холодом веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодежи, часто собиравшейся у его сыновей, как болтовня, веселье, шум и гам разом прекращались и воспроизводилась известная сцена из «Дон Жуана». Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре».
Если верить старшему сыну Николая Мартынова Сергею, «Мартынов при жизни всегда находился под гнетом угрызений совести своей, терзавшей его воспоминаниями об его несчастной дуэли, о которой он вообще говорить не любил, и лишь в Страстную неделю, когда он обыкновенно говел, а также 15 июля, в годовщину своего поединка, он иногда рассказывал более или менее подробно историю его».
Один из биографов Николая Мартынова утверждает, что в день дуэли с Лермонтовым он уезжал замаливать грехи в монастырь и заказывал там панихиду «по убиенному рабу Божьему Михаилу», а затем напивался в своем кабинете.
Мартынов хотел, чтобы его похоронили в селе под Москвой, принадлежавшем его отцу, в отдаленно расположенной могиле без надгробия, чтобы никто не смог идентифицировать могилу убийцы Лермонтова и, возможно, разорить или плюнуть на нее. Его желание соблюдено не было, и Николая Соломоновича похоронили в семейном склепе. В 1924 году ученики Алексеевской школьной колонии, желая отомстить за Лермонтова, разорили фамильный склеп Мартыновых, достали останки убийцы поэта и, по одним данным, утопили их в пруду, по другим – раскидали по усадьбе.
«В имении Мартыновых Знаменском после революции был устроен интернат для бывших беспризорников, – рассказывает свою версию событий Сергей Шумихин. – Выслушав на уроке литературы рассказ словесника о судьбе Лермонтова, ребята ночью пробрались в фамильный склеп, набили мешок костями Николая Соломоновича и вздернули его на березе напротив усадьбы».
Сергей Шумихин в предисловии к роману о Лермонтове и Мартынове Бориса Садовского «Пшеница и плевелы» резюмировал: «Итак, два человека. Один мог бы расшифровать подаваемые ему свыше знаки судьбы, но оказался не в силах совместить в своей душе священное с порочным, серафическое с демоническим – и в брошенном судьбе вызове проиграл. Проигрыш – смерть. Другой никогда не задумывался о высших предначертаниях: судьба вела его по пути множества таких же, шифр жизни был несложен, но, свернув с этого пути и став убийцей своего приятеля, Мартынов, так же как и Лермонтов, проиграл в схватке с Роком».
Сергей Ишков.
Фото с сайтов culture.ru и ru.wikipedia.org