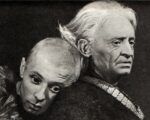17 июля 1982 года журналист Василий Песков впервые посетил «таежный тупик» и рассказал об удивительной истории семьи Лыковых, проживших в изоляции от людей больше 40 лет.

«Таежный тупик» – это документальная повесть Василия Пескова о семье старообрядцев-отшельников Лыковых, живущих в глухой тайге без контактов с внешним миром. Она была написана на основе серии очерков Василия Михайловича, публиковавшихся в газете «Комсомольская правда».

«Непросто было в 82-м году собрать информацию обо всем, что случилось, – признавался Василий Песков. – Что-то недоговаривалось, о чем-то Лыковы просто предпочитали молчать, еще не вполне доверяя людям из «мира», кое-что в сбивчивом непоследовательном рассказе было просто трудно понять».
Семь лет подряд Василий Михайлович бывал у Лыковых. Иногда летом, иногда – зимой или осенью. А узнал Песков об этой удивительной семье от красноярского краеведа Николая Журавлева. Возвращаясь с юга в Сибирь, он позвонил Василию Михайловичу и спросил: не заинтересует ли газету одна исключительная человеческая история? Журавлев и Песков встретились в Москве. Николай Устинович рассказал о том, что в горной Хакасии, в глухом, малодоступном районе Западного Саяна обнаружены люди, свыше 40 лет совершенно оторванные от мира. Небольшая семья, в которой выросли двое детей, с рождения не видавшие никого, кроме родителей, и имеющие представление о человеческом мире только по их рассказам. Краевед узнал об этом от геологов, а затем сам побывал у Лыковых в хижине.
«Допетровские времена вперемежку с каменным веком! – восхищался он. – Огонь добывают кресалом… Лучина… Летом босые, зимой обувка – из бересты. Жили без соли. Не знают хлеба. Язык не утратили. Но младших в семье понимаешь с трудом… Причина отшельничества – религиозное сектантство, корнями уходящее в допетровские времена. При слове «Никон» плюются и осеняют себя двуперстием, о Петре I говорят как о личном враге. События жизни недавней были им неизвестны. Электричество, радио, спутники – за гранью их понимания».

Лыковых нашли летом 1978 года. Воздушной геологической съемкой в верховье реки Абакан были открыты железорудные залежи. Для их разведки готовились высадить группу геологов, как вдруг на склоне горы пилоты увидели… огород! Думали, что показалось: район нежилой, место труднодоступное, до ближайшего населенного пункта вниз по реке 250 километров… Снизившись, насколько было возможно, летчики разглядели у огорода что-то похожее на жилье.
Когда геологи – трое мужчин и одна женщина, Галина Письменская, – добрались до хижины, оттуда к ним вышел босой старик с нечесаной бородой в латаной-перелатаной рубахе из мешковины и таких же портках. Внимательно оглядев гостей, он предложил им войти.
«Мы увидели силуэты двух женщин, – рассказывала позже Письменская. – Одна билась в истерике и молилась: «Это нам за грехи, за грехи…» Другая, держась за столб, медленно оседала на пол. Свет оконца упал на ее расширенные, смертельно испуганные глаза, и мы поняли: надо скорее выйти наружу. Старик вышел за нами следом. И, тоже немало смущенный, сказал, что это две его дочери. (…) От угощения консервами, чаем и хлебом подошедшие решительно отказались: «Нам это не можно!» На каменный очаг возле хижины они поставили чугунок с вымытой в ручье картошкой, накрыли посуду каменной плиткой и стали ждать. На вопрос: «Ели они когда-нибудь хлеб?» – старик сказал: «Я-то едал. А они нет. Даже не видели». Одеты дочери были так же, как и старик, в домотканую конопляную мешковину. Мешковатым был и покрой всей одежды: дырки для головы, поясная веревочка. И все – сплошные заплаты. (…) Речь дочерей мы с трудом понимали. В ней было много старинных слов, значенье которых надо было угадывать. Манера говорить тоже была очень своеобразной – глуховатый речитатив с произношением в нос. К вечеру знакомство продвинулось достаточно далеко, и мы уже знали: старика зовут Карп Осипович, а дочерей – Наталья и Агафья. Фамилия – Лыковы».

Выяснилось, что младшая дочь Карпа Осиповича, Агафья, умеет читать, что она тут же геологам и продемонстрировала, прочитав молитву из старой, закопченной книги.
«Не теряя осторожности в разговоре, старик сказал, что ушли они с женой от людей по божьему повелению, – вспоминала Галина Письменская. – «Нам не можно жить с миром…»
Принесенные нами подарки – клок полотна, нитки, иголки, крючки рыболовные – тут были приняты с благодарностью. Материю сестры, переглядываясь, гладили руками, рассматривали на свет. На этом первая встреча окончилась. Расставание было почти уже дружеским. И мы почувствовали: в лесной избушке нас будут теперь уже ждать».
Позже выяснилось, что в шести километрах от старика с дочерьми живут в отдельной хижине два его сына – Савин и Дмитрий. Через некоторое время Лыковы явились в базовый лагерь геологов все впятером и не с пустыми руками, а с подарками: мешками с картошкой и кедровыми орехами.
Осенью, улетая, геологи предложили Лыковым отправиться с ними и, конечно, же услышали: «Нет! Нам не можно…»
Краеведу Николаю Журавлеву, добравшемуся до лыковской хижины, удалось выяснить: это семья староверов, удалившаяся в тайгу в 30-х годах. Карпу Осиповичу было 83 года, его старшему сыну Савину – 56, Наталье – 46, Дмитрию – 40, младшей, Агафье, шел 39-й год.

Когда до Лыковых добрался журналист Василий Песков, от семьи остались лишь Карп Осипович и Агафья. Остальные ее члены скоропостижно скончались, почти один за другим.
«Старик уже не был таким «домотканно-замшелым», каким был открыт и описан геологами, – писал в своем очерке Василий Песков. – Подаренная кем-то войлочная шляпа делала его похожим на пасечника. Одет в штаны и рубаху фабричной ткани. На ногах валенки, под шляпой черный платок – защита от комаров. Речь внятная, без малейших огрехов, свойственных возрасту. Слегка глуховат, то и дело поправляет платок возле уха и наклоняется к собеседнику. Но взгляд внимательный, цепкий.
В момент, когда обсуждались виды на урожай в огороде, дверь хижины приоткрылась и оттуда мышкой выбежала Агафья, не скрывавшая детской радости от того, что видит людей. Тоже соединенные вместе ладони, поклоны в пояс. По виду о возрасте этой женщины судить никак невозможно. Черты лица человека до тридцати лет, но цвет кожи какой-то неестественно белый и нездоровый, вызывавший в памяти ростки картошки, долго лежавшей в теплой сырой темноте. Одета Агафья была в мешковатую черного цвета рубаху до пят. Ноги босые. На голове черный полотняный платок».
Как всегда, Лыковым привезли подарки.
«Старик благодарно подставил руки, принимая рабочий костюм, суконную куртку, коробочку с инструментом, сверток свечей. Сказав какое полагается слово и вежливо все оглядев, он обернул каждый дар куском бересты и сунул под навес крыши, – рассказывал о первой встрече с «отшельниками» Василий Михайлович. – Позже мы обнаружили там много изделий нашей швейной и резиновой промышленности и целый склад скобяного товара – всяк сюда приходящий что-нибудь приносил.
Агафье мы подарили чулки, материю, швейные принадлежности. («Наперстник!..» – радостно показала она отцу металлический колпачок). Еще большую радость вызвали у нее сшитые опытной женской рукой фартук из ситца, платок и красные варежки.
К нашему удивлению, были отвергнуты мыло и спички – «нам это не можно». То же самое мы услыхали, когда я открыл картонный короб с едой, доставленной из Москвы. Всего понемногу – печенье, хлеб, сухари, изюм, финики, шоколад, масло, консервы, чай, сахар, мед, сгущенное молоко, – все было вежливо остановлено двумя вперед выставленными ладонями. Лишь банку сгущенного молока старик взял в руки и, поколебавшись, поставил на завалинку – «кошкам…» (кошек Лыковым привезли геологи, как спасение от мышей – С. И.).
С большим трудом мы убедили их взять лимоны – «вам обязательно сейчас это нужно». После расспросов – «а где же это растет?» – старик подставил подол рубахи, но сказал Агафье, чтобы снесла лимоны в ручей – «пусть там до вечера полежат». (На другой день мы видели, как старик с дочерью по нашей инструкции выжимали лимоны в кружку и с любопытством нюхали корки)».
Бани у Лыковых не было. Они не мылись. «Нам это не можно». Пола в хижине ни метла, ни веник никогда не касались. Он пружинил под ногами. Оказалось, что «ковер» на нем состоит из картофельной шелухи, шелухи от кедровых орехов и конопляной костры. Кроме двух кошек у Лыковых еще жили семеро котят…
«Я спросил: знает ли Карп Осипович, что на Луне были люди, ходили там и ездили в колесницах? – писал Василий Песков. – Старик сказал, что много раз уже слышал об этом, но он не верит. Месяц – светило божественное. Кто же, кроме богов и ангелов, может туда долететь? Да и как можно ходить и ездить вниз головой? (…)
Царь Алексей Михайлович, сын его Петр, патриарх Никон с его «дьявольской щепотью – троеперстием» были для Карпа Осиповича непримиримыми кровными и личными недругами. Он говорил о них так, как будто не триста лет прошло с тех пор, когда жили и правили эти люди, а всего лишь, ну, лет с полсотни.
О Петре I («рубил бороды христианам и табачищем пропах») слова у Карпа Осиповича были особенно крепкими. Этого царя, «антихриста в человеческом облике», он ставил на одну доску с каким-то купцом, недодавшим староверческой братии где-то в начале века двадцать шесть пудов соли (…)
Лыковы «бегунами» себя не называют. Но весь жизненный статус семьи – «бегунский»: «с миром нам жить не можно», неприятие власти, «мирских» законов, бумаг, «мирской» еды и обычаев».
Кормильцем семьи все годы был огород – пологий участок горы, раскорчеванный в тайге. Там росли картошка, лук, репа, горох, конопля и рожь. Семена берегли пуще глаза. Основой питания была картошка, которую Лыковы ели с кожурой, объясняя это экономией пищи. Подсушенное зерно дробилось в ступе, и из него «по святым праздникам» варили ржаную кашу. Вторым огородом для семьи была тайга. Там брали березовый сок, кедровые орехи, дикий лук, крапиву, грибы, разные ягоды. Летом и осенью до ледостава Лыковы ловили рыбу, которую ели сырой, печеной в костре и сушеной.
Интересно, что все эти годы у Лыковых не было ни крупинки соли. В первую встречу с геологами семья «отшельников» отказалась от всех угощений. Но соль взяла. Карп Осипович не скрывал того, что обходиться десятилетия без соли было истинным мучением.
1961 год был для Лыковых страшным: им пришлось пережить голод. Июньский снег с довольно крепким морозом погубил все, что росло в огороде. Пострадали и таежные корма. Лыковым пришлось есть солому, кору, березовые почки, съели обувь из кожи, обивку с лыж.
В тот год умерла жена Карпа Осиповича Акулина Карповна, в свое время безропотно последовавшая за ним в тайгу.
«Главной болезнью у всех Лыковых была «надсада», – писал Василий Песков. – Что это был за недуг, я не понял. Предполагаю: это нездоровье нутра от подъемов тяжестей, но, возможно, это и некая общая слабость. Лечились «правкою живота». Что значит «править живот», я тоже не вполне понял. Объясняли так: больной лежит на спине, другой человек «с уменьем» мнет руками ему живот.
Двое из умерших – Савин и Наталья, очевидно, страдали болезнью кишок. Лекарством от недуга был «корень-ревень» в отваре. Савина прикончил кровавый понос.
В числе болезней Агафья называла простуду. Ее лечили крапивой, малиной и лежанием на печке. Простуда не была, однако, тут частой – народ Лыковы закаленный, ходили, случалось, по снегу босиком. Но Дмитрий, самый крепкий из всех, умер именно от простуды.
Раны на теле «слюнили» и мазали «серой» (смолою пихты). Пили Лыковы отвары чаги, смородиновых веток, иван-чая, готовили на зиму дикий лук, чернику, болотный багульник, кровавник, душицу и пижму».
Кроме лучины Лыковы другого света не знали. Но кое-какую исследовательскую работу они все же провели: задались целью выяснить, какое дерево лучше всего подходит для лучины, оказалось – береза, ее и заготавливали впрок.
«В поселке геологов, увидев электрическую лампочку, Лыковы с интересом поочередно нажимали на выключатель, пытаясь, как двухлетние дети, уловить странную связь между светом и черной кнопкой, – рассказывал в «Комсомолке» Василий Песков. – «Что измыслили! Аки солнце, глазам больно глядеть. А перстом прикоснулся – жжет пузырек!» – рассказывал Карп Осипович о первых посещениях семейством «мира», неожиданно к ним подступившего.
Ткань для одежды добывалась с величайшим трудом и усердием. Сеялась конопля. Созревшей она убиралась, сушилась, вымачивалась в ручье, мялась. Трепалась. Из кудели на прялке, представлявшей собой веретенце с маховичком, свивалась грубая конопляная нить. А потом уже дело доходило до ткачества. Станочек стоял в избе… Много времени уходило, пока из стеблей конопли появлялось драгоценное рубище. Из конопляной холстины шили летние платья, платки, чулки, рукавицы. Из нее же шили «лопатинки» и для зимы: между подкладкой и внешней холстиной клали сухую траву – власяницу. «Мороз-то крепок, деревья рвет», – объясняла Агафья».
Карпа Осиповича больше всего поразило, как вспоминал Василий Песков, не электричество, не самолет, у него на глазах однажды взлетевший с косы, не приемник, из которого слышался «бабий греховный глас» Пугачевой, а… прозрачный пакет из полиэтилена: «Господи, что измыслили – стекло, а мнется!»
Появление людей у их хижины для младших Лыковых было примерно тем же, чем стало бы для нас появление «летающих тарелок». Агафья сказала: «Я помню тот день. То было 2 июня 7486 года (15 июня 1978)».
События, которые волновали мир, Лыковым известны не были. Они не знали никаких знаменитых имен, о минувшей войне слышали лишь смутно. Когда с Карпом Осиповичем, помнившим «Первую мировую», геологи завели разговор о Второй мировой, он покачал головой:
«Это цё же такое, второй раз, и все немцы…»
Когда Лыковы в первый раз увидели у геологов телевизор, их интересовало и поражало все: поезд идет, комбайны в полях, люди на городской улице («Господи, много-то, как комаров!»), большие дома, пароход.
«Агафью взбудоражила лошадь, – описывал происходящее Василий Михайлович. – «Конь! Тятенька, конь!» Лошадь она ни разу не видела, но представляла ее по рассказам. И вот рассказ подтвердился. Старик же заерзал, когда по реке летела «Ракета». «Баско, баско! (хорошо, значит) Вот это лодка!» Увидев на сцене самодеятельность кубанских казачек-старушек, Карп изумился: «Э-э, греховодницы. Молиться надо, а они пляшут». В ужас Агафью повергла встреча боксеров. Вскочила и убежала. И можно это понять: полуголые мужики дубасят друг друга огромными кулаками, а кругом люди.
«Греховное дело», – сказали о телевизоре дочь и отец. Однако сей грех оказался для них непреодолимо влекущим…»
16 февраля 1988 года умер Карп Осипович. По странному совпадению умер он в тот же день – 16 февраля, в какой двадцать семь лет назад умерла его жена Акулина. Карпа Лыкова не стало на 87 году жизни.
Оставшись одна, Агафья связалась с обнаружившимися у них родственниками, однако отношения между ними не сложились. В 1990 году Агафья Лыкова переехала в старообрядческий женский монастырь, принадлежащий часовенному согласию, и прошла через чин «накрытия» (пострижения в монахини). Однако через несколько месяцев Агафья вернулась обратно, сославшись на нездоровье и идейные расхождения с монахинями. С этого момента Лыкова практически безвыездно проживает в своей хижине. «Отшельнице» привозят все необходимое, оказывают медицинскую помощь, она принимала множество гостей – журналистов, писателей и т. д. В ноябре 2019 года у Агафьи отыскался и приехал к ней в гости ее племянник Антон Лыков.
Весной 2021 года Агафья Лыкова переехала в новый дом, который построили специально для нее. 17 апреля 2024 года ей исполнилось 80 лет. О возможном переселении «в мир» никогда не думала.
«Тут родилась, тут и умереть не страшусь», – говорила Агафья Василию Пескову.
«В миру жить грешно, в миру жить нельзя». Это воззрение сам старик Лыков сохранил до последнего издыхания и дочери завещал неотступно держаться «праведной веры».
«Человек во Вселенной пылинка. Но хочется ему на Земле счастья, радостей больших и маленьких. Судьба не всем улыбается. Девочке Агафье, рожденной в 1944 году, тут, на реке Еринат, судьба уготовила одиночество, от которого она не бежит – не может и не желает», – так закончил свою повесть «Таежный тупик» Василий Песков.
А хорошо ли, что люди нашли Лыковых? Этот вопрос Василий Михайлович как-то задал Агафье в одной из бесед. «Мы сразу решили: людей послал нам Бог, – ответила она. – Люди много добра нам сделали…»
Агафья Лыкова – последняя из рода «отшельников»…
Сергей Ишков.
Фото с сайтов ru.wikipedia.org и kulturologia.ru