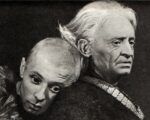Так охарактеризовал особенности текущего момента в истории страны и мира генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, выступая на круглом столе «Общественная миссия социальной архитектуры» в МИА «Россия сегодня».

Валерий Фёдоров напомнил, что означает «точка бифуркации»: «Это когда вы не знаете и не можете знать, что будет завтра. То есть это точка равновероятности совершенно разных, в том числе и диаметрально противоположных сценариев. Это понятие из теории хаоса нашего соотечественника, нобелевского лауреата Ильи Романовича Пригожина. Действительно, сейчас мы по многим вопросам находимся в точке бифуркации и могут реализоваться как самые страшные, алармистские сценарии, которые не исключают в том числе и гибели человечества, не обязательно, кстати, в огне ядерной войны: например, это может быть восстание машин, и я в данном случае имею в виду не «ужастики», а серьезные исследования ученых и государственных деятелей, так и более или менее оптимистические. Сейчас резко выросла неопределенность путей развития и нашей страны, и всего большого мира. Напомню в связи с этим метафору Си Цзиньпина, который сказал, что мы сейчас переживаем перемены, которых не было сто лет».
По его словам, весь мир и Россия как его часть сейчас переживает сходные процессы: «Конечно, со своей спецификой, но процессы эти общие. Во всем мире сейчас происходят по-настоящему революционные изменения. Они происходят в расстановке сил на мировой арене, они происходят в социальной психологии, они происходят в технологиях, во взаимодействии человека и машины, в части социальных институтов и так далее. Человечество всегда меняется, но сейчас, во-первых, мы меняемся гораздо быстрее, а во-вторых, эти перемены оказались спрессованы и одновременно происходят на разных аренах нашей жизни».
Как отметил Валерий Фёдоров, в связи с тем, что прекращается инерционное, поступательное развитие в обществе, резко обостряется интерес к тому, что же будет дальше: «Рост этого интереса отмечается и в нашей стране тоже. То есть люди хотят знать, что будет, и что делать для того, чтобы то, что будет, больше отвечало нашим требованиям, нашим интересам, нашим ценностям. Отмечается запрос общества на научно обоснованный образ будущего. Я бы не сказал, что этот запрос уже встал в полный рост, скорее, мы фиксируем какую-то раннюю стадию, но всё-таки этот запрос растет. Еще несколько лет назад с микроскопом трудно было его обнаружить, а сегодня он уже явно просматривается. И, конечно, на этот запрос нужно давать ответ, нужно формировать эту картину мира. Не обязательно одну, может, это будут разные картины, но они должны быть. Еще, конечно, желательно, чтобы это были картины не импортированные, а наши, так сказать, самозародившиеся на нашей родной почве».
Однако сегодня, по его словам, мало что самозарождается: «Если у политтехнологов все хорошо (их много, они даже порой ощущают дефицит востребованности), то с отечественной прогностикой всё наоборот. Это отрасль, которая некоторое время назад цвела пышным цветом, но сегодня она, по сути, находится в руинах. Сказать, что у нас сегодня есть серьезные школы, серьезные силы, высокий потенциал точного и детального социального прогнозирования, это означало бы погрешить против истины. (…) Недавно мой коллега, руководитель группы «Циркон» Игорь Задорин, провел исследование, которое называется «Атлас российской футурологии». Он поставил перед собой задачу картографировать все интеллектуальные силы, которые сегодня в России присутствуют на ниве социального прогнозирования. Гипотеза была, что сил этих немного, и они представляют собой жалкое зрелище. Однако ответ оказался оптимистическим: силы есть, но они крайне разобщены. Люди есть, яркие умы есть, а школ, центров, единого профессионального сообщества пока нет. Я думаю, это надо изменить».
По мнению главы ВЦИОМ, новая социальная архитектура необходима, потому что прежние парадигмы, на которых мы все воспитывались, все больше и больше перестают работать: «Мир меняется, и парадигмы меняются. Что это за парадигмы? Ну, наверное, самая известная – это демография. Напомню, что еще пять лет назад никакого стона и плача во всемирном масштабе по поводу демографии не было. Господствовало представление, что скорее проблемой является, как остановить быстрый рост населения, который постепенно исчерпывает ресурсы планеты. Прошло пять лет, и сегодня картинка изменилась радикально. Сегодня во всем мире осталось только три территории с быстрым ростом населения, это Черная Африка, индийский субконтинент и Центральная Азия). В Китае население не воспроизводится, в арабском мире население не воспроизводится, в Латинской Америке тоже. (…) И это я еще не перечисляю страны «первого мира», где оно давно не воспроизводится. То есть все изменилось всего за пять лет: радикально изменились демографические тренды в планетарном масштабе, и никто не знает, что с этим делать. Вот это, по-моему, самый яркий пример того, что прежние подходы уже не работают. О социальных эффектах технологической революции говорить не буду, так как они всем очевидны. Сейчас на первом плане нейросети – их возможности и те угрозы, которые они несут. Произнесу только один термин, который в последнее время на слуху: он называется «когнитивная разгрузка». Речь идет о процессах в нашем мозге, которые активируются при интенсивном использовании нейросетей для решения сложных задач. То есть если раньше, решая сложные задачи, человек «прокачивался», соответствующие отделы головного мозга увеличивались, человек, можно сказать, на глазах умнел, то сейчас происходит ровно противоположное. Мы решаем сложные задачи быстрее и часто эффективнее, чем раньше, но при этом мы, увы, не умнеем, а тупеем».
Как отметил генеральный директор ВЦИОМ, то, что кризис сейчас уже множественный (он и экономический, и социальный, и политический, и идеологический), приводит к тому, что прежние парадигмы не работают и становятся нужны новые подходы: «Институты – то, на чем держится любое общество, в последнее время дают все больше сбоев. Они не справляются с вызовами сегодняшнего дня. Что такое институты? Это, например, институт образования или институт воспитания, или институт государственной службы, или институт пенсионной системы, институт социального обеспечения. В общем, все те огромные социальные машины, которые были придуманы человечеством для того, чтобы поддерживать быстрый темп нашего развития. И они худо-бедно работали, но сегодня происходит что-то, что лишает их шанса адаптироваться. То есть все они пытаются латать себя, но уже не успевают».
По мнению Валерия Фёдорова, снижение эффективности социальных институтов вплоть до возможного развала и даже исчезновения некоторых из них – это еще один важный импульс, который вызывает к жизни «призрак социальной архитектуры». Пока, по его словам, он еще только призрак, но скоро он обретет «плоть и кровь». Социальная архитектура – это, проще говоря, новые практики взаимодействия власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач, создание мостов через линии социальных разломов.
Сергей Ишков.
Фото Юлии Смагринской