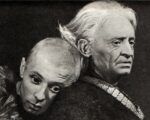26 октября 1898 года спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» открылся Московский Художественно-общедоступный театр, созданный Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко.

Спектакль был поставлен по одноименной трагедии Алексея Константиновича Толстого, которую он написал еще в 1868 году. В течение тридцати лет пьеса была под цензурным запретом. Все попытки перенести «Царя Фёдора Иоанновича» на сцену театра были безуспешны. Министр внутренних дел А. Е. Тимашев рассматривал трагедию как политически неблагонадежное произведение. Считалось, что у пьесы «крамольная репутация».
Алексей Толстой начал работать над трагедией в пяти действиях «Царь Фёдор Иоаннович» в 1864 году. Тема русского царя сильно увлекла поэта. Он признавался: «Я весь в нее ушел…»
Толстой стремился к созданию неоднозначно решаемого образа царя Фёдора Иоанновича, несколько раз он коренным образом менял сюжетную линию.
Впервые текст пьесы был опубликован в пятом номере журнала «Вестник Европы» за 1868 год. В начале апреля того же года Главное управление по делам печати посвятило целый день разбору пьесы Алексея Константиновича. В результате ему предложили существенно переделать текст, что поэт и сделал. В июле 1868 года в Управлении по делам печати вновь разбирали трагедию Толстого. В окончательном решении от 24 сентября 1868 года постановка пьесы была запрещена.

Алексей Толстой все это тяжело переживал. В сердцах он писал Болеславу Маркевичу: «Я слишком художник, чтобы нападать на монархию. (…) Надо быть очень глупым, чтобы в «Фёдоре» усмотреть памфлет против монархии. Если бы это было так, я первый приветствовал бы его запрещение. Но если один монарх – дурен, а другой – слаб, разве из этого следует, что монархи не нужны? Если бы было так, из «Ревизора» следовало бы, что не нужны городничие, из «Горя от ума» – что не нужны чиновники, из «Тартюфа» – что не нужны священники, из «Севильского цирюльника» – что не нужны опекуны, а из «Отелло» – что не нужен брак».
Увидеть «Царя Фёдора Иоанновича» на сцене Алексею Толстому так и не довелось.
В 1896 году актер и режиссер Александр Ленский вознамерился поставить пьесу в Малом театре. В прошении к управляющему Московской конторой императорских театров Павлу Пчельникову он сообщал: «Я почел бы себя счастливым, получив возможность поставить в свой бенефис это образцовое произведение одного из лучших отечественных поэтов, благодаря которому наша публика ознакомилась бы с трогательно кротким обликом некогда царствовавшего на Руси царя. И что мне кажется особенно симпатичным, так это то, что он является перед зрителем не в торжественной обстановке приема послов и царской думы, не в полном царском облачении, а именно в своей простой домашней обстановке, со своей Аринушкой, тут же вышивающей в пяльцах; в этом знакомом каждому москвичу тесном, жарко натопленном покойчике, с пузатой печкой, занимающей добрую четверть комнаты, с этим запахом лампадного масла и ладана – словом, со всем тем, что окружало некогда православного русского царя. И на этом-то благочестивом, стародавнем, словно из потускневшего золота фоне воспроизвести симпатичный, всепрощающий образ «царя-ангела», как его называли. Какая обаятельная задача для актера. Я не знаю другого литературного произведения, где бы так чувствовалась потребность сузить портал сцены, чтобы применить поговорку: «в тесноте, да не в обиде», где необходимо дать до мельчайших подробностей верную эпохе обстановку и филиграновую работу актеров».
Ленскому отказали. Только влияние Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны позволило снять запрет на постановку пьесы Толстого в общедоступных театрах. Неприступную, казалось бы, стену удалось пробить лишь в 1898 году. «Царь Фёдор Иоаннович» был поставлен сначала в Петербурге на сцене театра Алексея Суворина, а затем и в Москве. Этот спектакль стал дебютом Художественно-общедоступного театра. После этого драма Алексея Толстого с повсеместным успехом обошла все провинциальные театры.
В Москве пьеса была разрешена к постановке под личную ответственность Владимира Немировича-Данченко.
«Что же так настораживало цензурный комитет? – задается вопросом И. Биккулова в работе «К истории постановки трагедии А. К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» в Московском Художественно-общедоступном театре в 1898 году». – В первую очередь, его пугал образ царя (…) как человека переживающего, сомневающегося, тонущего в центре интриг различных придворных группировок. Настораживало и изображение лиц духовного сана, ибо не принято было выводить на сцену митрополитов и патриарха. Для цензурного комитета был неприемлем контраст между духовно чистым, бескорыстным царем Фёдором и бездушной и реакционной церковью. (…) Менее всего цензуру волновало реалистическое воспроизведение прошлого и глубина замысла писателя».
В итоге пьесу разрешили играть только с сокращениями.
Репетиции трагедии начались в подмосковном Пушкине. Там Константином Станиславским и Александром Саниным, отвечавшим за массовые сцены, был арендован обыкновенный сарай. В Пушкине выстроили сцену, равную по размерам сцене театра «Эрмитаж» в Каретном Ряду. На ней предполагалось устроить премьеру. Занавес был изготовлен из простой ситцевой ткани. Декорации делали в балагане Петровско-Разумовского парка.
Всего режиссерами было проведено 74 репетиции.
Художник Виктор Симов взялся создать декорации и костюмы, с практически музейной точностью воспроизводившие убранство царских палат и наряды XVI века. Для этого Симов с коллегами отправился в экспедицию по волжским городам. В частности, они побывали в Ростовском кремле, где им позволили осмотреть бывшие покои Ивана Грозного, в Ярославле и Нижнем Новгороде, где было приобретено множество старинных вышивок, деревянной посуды и других ценных вещей.
Константин Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» писал: «Я возвратился в Москву с богатой добычей, так как привез с собой целый музей не только костюмов, но и разных других вещей для обстановки «Фёдора»; много деревянной посуды для первой картины пира Шуйского, деревянную резьбу для мебели, восточные полавочники. На сцене нет нужды делать роскошную обстановку от первой вещи до последней. Нужны пятна – и вот эти-то пятна будущей постановки я и приобрел в ту счастливую поездку».
На сцене была создана подлинная иллюзия жизни: низкие, душные палаты, княжеский сад, покои в царском тереме, берег Яузы с толпящимся людом разных сословий.
Создателями постановки было решено «ошеломить публику почти музейными костюмами, замечательными вышивками, (…) яркой народной толпой и смелыми мизансценами».
Такое богатое и сложное оформление спектакля было для тогдашнего театра в новинку. Раньше декорации в русском театре были лишь условностью: спектакли шли в трехстенных павильонах с нарисованными окнами и шкафами, если действие проходило в комнате, или арками в виде переплетающихся деревьев, если действие шло в лесу или саду.
Художественное оформление и костюмы в постановке «Царя Фёдора Иоанновича» привели зрителей и критиков в восторг.
«Все – декорации, утварь, костюмы, каждое движение каждого отдельного лица, – все переносит вас в старую Москву. Написана большая часть декораций очень хорошо. Они натуральны, стильны, красивы, ни на минуту не отвлекают к себе внимание зрителя. Они все время остаются красивым фоном всего происходящего на сцене – и только, что немалая заслуга. Некоторые декорации взяты чрезвычайно оригинально и смело. Например, сад с силуэтом целой сети деревьев и прямо у самой рампы», – рассказывал в газете «Курьер» художественный критик Сергей Голоушев.
В свою очередь театральный критик и историк театра Николай Эфрос восхищался тем, что «всякого захватывала своим общим тоном эта размашистая Русь XVI века со всем ее своеобразным пестрым колоритом, со всеми особенностями ее быта и духа, – и зритель безусловно верил этому изображению, хотя и не сумел бы сказать, точны ли необычайные головные уборы на женщинах, бесконечной длины мужские рукава, утварь и т. д.»
Спектакль играли 40 лет, до 1949 года. Менялись составы, старели актеры, но костюмы всегда поражали. Сегодня костюмы первого спектакля хранятся в доме-музее К. С. Станиславского и в постоянной экспозиции музея МХАТ.
«Прежде всего, с начала до конца вся постановка, начиная с игры главнейших персонажей и кончая самой мельчайшей деталью, стилизована, сведена в такое одно целое, что все время перед зрителями (…) старая Русь, – писал критик Сергей Голоушев. – Костюмы точно сняты с плеч всех этих Шуйских и Мстиславских, хранились в сундуках и теперь снова перед вами. Об умении носить их я уже не говорю».

26 октября 1898 года история Московского Художественного театра открылась «Царем Фёдором Иоанновичем». В спектакле играли будущие звезды русской сцены – актеры Общества любителей искусства и литературы, которым руководил Станиславский, и выпускники Филармонического училища, ученики В. И. Немировича-Данченко.

Царя Фёдора играл тогда еще неизвестный актер Иван Москвин, Василия Шуйского – Всеволод Мейерхольд, спустя пару лет в спектакле стал участвовать и сам Станиславский (в роли Ивана Шуйского).
Первое представление затянулось почти до двух часов ночи. После спектакля долго спорили и не расходились.
«П. П. Гнедич объяснял сенсационный успех первой постановки еще и сплетнями по Москве, что актер, играющий царя, будет загримирован под Николая II, а Годунов будет похож на С. Ю. Витте, – писала И. Биккулова. – В конце XIX века этот слух будоражил, ибо о неумении Николая вести государственные дела шептались многие. На одном из спектаклей случился конфуз. Некто с криком «Не позволю оскорблять царя!» бросил бинокль на сцену. Правда, (…) этот человек оказался «ненормальным».
В 1906 году в ходе триумфальных гастролей Художественного театра за границей все с восторгом писали о русском спектакле, перевернувшем впечатление о сценическом действии.
Ученик Немировича-Данченко Иван Москвин в роли царя Фёдора создал на сцене особый национальный характер. Он играл трагедию бессильного и одинокого правителя. Даже в гриме его была какая-то болезненность и угнетенность.
«Для передачи Фёдора требуется не только тонкий ум, но и сердечное понимание», – писал А. Толстой.
Судя по рецензиям и воспоминаниям, Иван Москвин с задачей полностью справился: он сумел заставить публику улыбаться сквозь слезы, сумел сыграть высокие душевные достоинства.
«Москвин как будто сам слился с этой ролью», – писал критик Сергей Голоушев.
Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» на сцене Художественно-общедоступного театра безусловно стал культурным событием конца XIX века и провозгласил новый театр века XX. Именно с этой постановке заговорили о системе Станиславского.
Этот спектакль стал абсолютной легендой отечественного театра.
«Успех «Царя Фёдора» был так велик, что сравнительно скоро пришлось праздновать его сотое представление, – писал Станиславский. – Торжество, помпа, восторженные статьи, много ценных подношений, адресов, шумные овации свидетельствовали о том, что театр в известной части прессы и зрителей стал любим и популярен».
День сотого спектакля в январе 1901 года был назван «славным знаменательным днем для всей театральной Москвы», а Художественный театр – «апостолом художественности драматического искусства в новом двадцатом столетии».
До 27 октября 1949 года «Царя Фёдора Иоанновича» сыграли 920 раз.
Сергей Ишков.
Фото mxat.ru