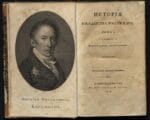12 ноября 1803 года император Александр I назначил Николая Карамзина российским историографом. В 1804 году Карамзин полностью посвятил себя написанию «Истории государства Российского».

Вместе с почетным званием Николай Карамзин получил две тысячи рублей ежегодного жалования.
Звание российского историографа дало писателю право беспрепятственно вести работу в архивах – «читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских древностей касающихся».
На следующий год Николай Карамзин приступил к созданию величайшего труда своей жизни – «Истории государства Российского». Первые восемь томов «Истории» вышли в свет в феврале 1818 года огромным для того времени тиражом три тысячи экземпляров и были мгновенно раскуплены.
Александр Сергеевич Пушкин писал: «Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их (…) с жадностию и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную (в это время российское светское общество, в основном дворянского происхождения, лучше знало историю Древнего Рима и Греции, Западной Европы, чем России. Для многих дворян основным языком был французский. – С. И.). Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. (…) Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова «Истории» Карамзина. Одна дама, впрочем весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух: ««Владимир усыновил Святополка, однако не любил его…» «Однако»!.. Зачем не «но»? «Однако»! Как это глупо! Чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? «Однако»!» (…)
У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина – зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты «Русской истории» (нотами Пушкин называл большие примечания к «Истории» Карамзина. – С. И.) свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. – Молодые якобинцы (речь идет о будущих декабристах, которые выступили с резкой критикой Карамзина. – С. И.) негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники – чего же более требовать было от него? Повторяю, что «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».
В последующие годы вышли еще три тома «Истории» – в 1821 году был издан девятый том, а в 1824 году следующие два. Двенадцатый том автор закончить не успел, он увидел свет спустя почти три года после смерти Карамзина. По черновикам Николая Михайловича двенадцатый том подготовили Константин Сербинович и Дмитрий Блудов. В начале 1829 года Блудов издал его. Позднее в том же году вышло второе издание всех двенадцати томов.
Про Карамзина после назначения его российским историографом сразу же придумали анекдот: писатель, получив почетное звание, отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: «Если меня не примут, то запиши меня». Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его: «А записал ли ты меня?» – «Записал». – «Что же ты записал?» – «Карамзин, граф истории».
Русский поэт и литературный критик Пётр Вяземский говорил о Николае Карамзине: «Карамзин – наш Кутузов двенадцатого года, он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие о том узнали в двенадцатом году».
Как уже говорилось выше, многие исторические факты Карамзин брал из древних летописей, часть из которых была введена им в научный оборот впервые. К примеру, именно Карамзиным была найдена и названа Ипатьевская летопись. Многочисленные детали и подробности, чтобы не загромождать ими связный текст рассказа, Карамзин вынес в особый том примечаний. Именно эти примечания имели наибольшее научное значение. Так, попытка реставрации Троицкой летописи, уничтоженной пожаром 1812 года, во многом основывалась на примечаниях Карамзина.
С самого начала многие критики обратили внимание на то, что в своем труде Карамзин выступал больше как писатель, чем как историк: описывая исторические факты, он прежде всего заботился о красоте языка. Поэтому, утверждали они, это больше литература, чем подлинная история.
В традиции классицизма Николай Михайлович нередко завершал повествование о том или ином историческом эпизоде моралистической сентенцией или эмоциональным отступлением.
В плане структуры и слога образцом для писателя послужила «История упадка и крушения Римской империи» Гиббона. Подобно тому, как Гиббон на примере всех описываемых событий иллюстрирует тезис о том, что упадок нравов неминуемо ведет к краху государственности, Карамзин через весь труд проводит мысль о благодетельности для России сильной самодержавной власти. Известна эпиграмма Пушкина на него:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
Нарисованная Николаем Карамзиным картина русской истории фактически стала канонической.
Согласно легенде, прочитав карамзинскую «Историю», граф Фёдор Иванович Толстой по прозвищу Американец воскликнул: «Оказывается, у меня есть Отечество!».
Русские люди вдруг узнали, что живут в стране с тысячелетней историей и им есть, чем гордиться. До этого считалось, что до Петра I, прорубившего «окно в Европу», в России не было ничего хоть сколько-нибудь достойного внимания.
Что касается личности Ивана Грозного, то ряд историков отмечают, что описание его царствования у Карамзина делится на две части. Примерно до 1560 года это был мудрый и добрый, христианнейший государь. В 1560-1564 гг. Грозный, по Карамзину, начинает повреждаться рассудком, что выражалось во вспышках ярости и необоснованных казнях. С конца 1564 года царь – «безумный кровавый тиран». Так получилось из-за того, утверждают сторонники той точки зрения, что Карамзин оболгал царя, что в качестве источников Николай Михайлович использовал свидетельства беглого князя-эмигранта, «первого русского диссидента» Андрея Курбского, написавшего «Историю о князя великого Московского делех» в Речи Посполитой во время войны против России. Карамзинская «История государства Российского» содержит многочисленные ссылки на сочинения иностранцев – П. Одерборна, А. Гваньини, Т. Бреденбаха, И. Таубе, Э. Крузе, Дж. Флетчера, П. Петрея, М. Стрыйковского, Даниила Принца, И. Кобенцля, Р. Гейденштейна, А. Поссевино и др. Тексты создавались в странах, с которыми Русское царство воевало либо находилось в состоянии культурно-религиозного противостояния.
Так или иначе, история для Карамзина была не просто последовательностью событий в их взаимосвязи, но и их осмыслением и пониманием, причем пониманием не отвлеченно рациональным, умозрительным, но также и одухотворенным.
Сергей Ишков.
Фото ru.wikipedia.org