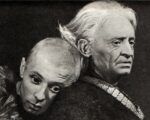В августе 1918 года, уехав из Советской России, композитор Сергей Прокофьев прибыл в США. Поехать «по делам искусства и для поправки здоровья» ему разрешил нарком просвещения Анатолий Луначарский. Прокофьев уже точно знал, что вернется нескоро.

В «страну великолепного комфорта, золотых долларов и безупречного all right» Прокофьев прибыл на пароходе из Гонолулу. Композитор решил добираться до Америки через Японию, в последние дни августа пароход прибыл в залив Сан-Франциско.
«К нам уже подъезжали ловкие пароходики под американским флагом и начинался медицинский осмотр пассажиров и полицейский допрос, – вспоминал позже Сергей Прокофьев. – По мере того, как туман рассеивался, выплывали красивые очертания бухты. Откуда-то доносился звон, но это был не церковный, а сигнальный, по случаю тумана. (…) Полицейским допросом морили пассажиров несколько часов и в результате двадцать человек на берег не пустили, среди них – всех приехавших из России (за исключением уже бывших в Америке) и среди них – меня. Мы должны были выдержать еще один допрос, показать письма, бумаги и прочее. Из России боялись немецких шпионов и большевиков.
– Что это?
– Ноты.
– Вы сами их написали?
– Сам, на пароходе.
– А вы их можете сыграть?
– Могу.
– Сыграйте.
Играю на пианино, которое тут же в гостиной парохода, тему скрипичной сонаты без аккомпанемента. Не нравится.
– А вы Шопена можете сыграть?
– Что вы хотите?
– «Похоронный марш».
Играю четыре такта. Чиновник, видимо, наслаждается.
– Очень хорошо, – говорит он с чувством.
– А вы знаете, на чью смерть он написан? – спрашиваю.
– Нет.
– На смерть собаки.
Человек неодобрительно качает головой.

Перерыв все мои сочинения, но не найдя среди них писем, чиновник заявил, что хотя нам всем придется съездить на остров, но вероятно через час меня отпустят. Остров, это звучало неприятно, так как мы его видели при въезде в бухту: он мал, скалист, красив и весь застроен тюрьмами. В результате заявили, что теперь четыре часа, присутствие на острове закрылось и нас повезут туда завтра утром, а пока мы должны ночевать на пароходе. Уныло мы слонялись по опустевшей палубе парохода и восклицали: «Скучный город Сан-Франциско!» Вечером пассажиры просили меня играть и, хотя я всегда отказывался, в этот вечер я играл, и с большим удивлением, целых два часа. Пассажиры, оказавшиеся большими ценителями музыки, были в дичайшем восторге, чествовали меня шампанским и вечер прошел очень оживленно. «Мы рады теперь, что нас задержали на пароходе», – говорили они. А один богатый еврей просил осторожно передать мне, что если у меня случились бы какие затруднения или надобность в деньгах, чтобы я отправился прямо к нему».
На следующий день пассажиров посадили на катер и повезли на остров. К счастью, это оказался не «тюремный» остров, а соседний с ним остров, где находилась «Эмиграционная станция».
«Когда мы выгрузились на острове, я, смеясь, сказал – почему же нет для нас конвоя с пулеметами? – но нас провели в здание и поместили в комнату за решетку, – записал Сергей Прокофьев в дневнике. – Хотя дверь за решетку деликатно оставили приоткрытой, но все же впечатление было пренеприятное. Особенно же неприятен был фотоаппарат, которым, очевидно, запечатлевали лица приведенных сюда. Я высказал предположение, что у нас еще будут снимать отпечатки рук и ног. Дело принимало весьма отвратительный оборот. Всех «каторжников» нас было двадцать человек: три голландца, заподозренных в сношении с германскими фирмами; четыре богатых еврея; еврейская семья из бедных румын, не имевших достаточно денег для права въезда в Соединенные Штаты; один чех с австрийским паспортом; грек; итальянская чета Vernetta, едущих из Одессы в Италию; я и пять китайцев.
Допрос начали только в одиннадцать, а в двенадцать чиновники уже пошли завтракать, прокушав до часу. Первых увели спрашивать четырех богатых евреев, которых промучили три часа и дали свободу. Затем отпустили после допроса семью румынских евреев, а голландскую чету задержали до выяснения и интернировали на острове. А в четыре часа объявили, что присутствие окончено, что мы будем ночевать здесь же на острове, в госпитале, а допрос будет завтра. Тут я разозлился совсем: эти черти работают четыре часа в день, а мы сиди и жди третьи сутки! Выйдя в вестибюль, я им крикнул по-английски: такие беспорядки – срам для Америки! Но они невозмутимо ответили «all right» и уехали в город, так как на острове они не ночевали. Нам разрешили гулять перед зданием, причем один из пленных здесь чехов рассказал, что он сидит здесь из-за своих потерянных бумаг уже третий месяц и завтра наконец будет освобожден. Здесь перебывали все: и английский полковник, и французский консул из Южной Америки с шестью детьми. Все возмущались, мужчины кричали и ругались, дамы рыдали, им отвечали «all right» и дня через три отпускали. Учреждение спокойное, деликатное, устроенное для контроля китайцев и японцев и совершенно не привыкшее к обхождению с европейцами, которых сюда стали таскать лишь с объявлением войны. Обижаться нечего, а надо терпеливо высидеть эти дни, тем более, что с вами вежливы, кормят ничего, ночью дают чистое белье, а вечером позволяют гулять по скверу, усаженному пальмами и цветами. (…) Вечером перед окном нам показался слон. Ночью он кричал».
Наутро выяснилось, что «слон» оказался тряпками, а его «крик» – сиреной по случаю тумана.
Начался новый допрос.
«Это становилось невыносимо, – сетовал композитор. – Кроме того, газеты сообщали, что большевики, объявив войну всем союзникам, арестовали многих американцев в Москве и Петрограде, а потому здесь, как ответ, могли держать русских сколько угодно. Но тут мне сделали объяснение, с которого следовало начать: допрос здесь производится от того так медленно, что они не получают резолюции от морской контрразведки, делавшей нам допрос на пароходе. Без нее они не могут начать свой допрос. Резолюция обо мне наконец получена сегодня, завтра утром они меня опросят, и если я удовлетворю их по всем пунктам, то отпустят. Я решил, что резолюция обо мне задержана от того, что там разбирались в моих многочисленных бумагах, письмах и рукописях, отобранных на пароходе для просмотра, и стал ждать завтрашнего дня».

Допрос Сергея Прокофьева продолжался час.
«Меня спрашивали массу нужных и ненужных вещей, но некоторые вопросы были прямо шедевры:
– Сочувствуете ли вы в войне союзникам?
– Сочувствую.
– Сочувствуете ли вы большевикам?
– Нет.
– Почему?
– Потому что они взяли мои деньги.
– Бывали ли вы на их митингах?
– Бывал.
– Хорошо ли они говорят?
– Хорошо, но не логично.
– Где ваш отец?
– В могиле.
– Был ли он на войне?
– Нет.
– Почему?
– Потому что умер.
– Состоите ли вы членом какого-нибудь общества?
– Петроградского Шахматного общества.
– Политической партии?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я считаю, что артист должен быть вне политики.
– Признаете ли вы многоженство?
– Я не имею ни одной.
– Сидели ли вы в тюрьме?
– В вашей. Etc.
(…) Долго придирались насчет того, почему у меня только сто долларов и наконец отпустили на волю», – рассказывал в своем дневнике Прокофьев.
Наконец, пароход с композитором на борту отплыл в Сан-Франциско.
«Уф! И как приятно было, с возвращённой нам свободой, сесть в мягкий автомобиль и отправиться в Plaza Hotel! (…) Хотя Сан-Франциско не Нью-Йорк и не Чикаго, но все же он поражал своим оживлением, благоустройством и, главное, удивительным богатством: магазины ломятся от превосходных вещей и, очевидно, доллары текут рекой (…) Мне очень понравилось католическое богослужение, которое я слышал в первый раз. Очень хорошо тихое прелюдирование органа и декламация священника на этом фоне. Днем, на общественном автомобиле ездили по окрестностям Сан-Франциско. Окрестности очень красивы, а благоустройство, довольство и богатство (всех классов общества) так и улыбается со всех сторон», – записывал первые впечатления о «стране возможностей» Сергей Профьев.
Направляясь в Нью-Йорк, Прокофьев решил проехать через Ванкувер, Канаду и Чикаго: «Это не дороже, но крюк. Зато увидим Калифорнию и скалистую Канаду. Я очень рад заглянуть в Канаду и посмотреть, какова знаменитая Калифорния!»
От знакомых Сергей Сергеевич узнал, что русские музыканты в Америке в спросе и большевизм не бросил тени на русское искусство; русских, не имеющих «первых бумаг», т. е. бумаг, знаменующих первый шаг к американскому подданству, «под знамена» не берут…
Ванкувер по своей внешности и складу жизни напомнил Прокофьеву Англию: «Я не думал, что английские владения в Америке могут так отличаться от Соединенных Штатов. Особенно это бросалось в глаза по случаю воскресения, когда во всяком английском городе жизнь вымирает. Ездят по левой стороне, больше чинности, пахнет патриархальностью, меньше небоскребов и кипучести на улицах».
В Нью-Йорк композитор отправился в Canadian Pacific экспрессе.
«Я был чрезвычайно доволен, что еду в этом превосходном поезде, – записал Прокофьев в дневнике. – Сегодня самый живописный день поездки через Америку: с утра до вечера мы поднимались на Скалистые горы. Сзади поезда прицепили observation car – простой и остроумный: огороженная платформа с диванами. Идеально видно во все четыре стороны, а на поворотах перед глазами весь поезд. Со всех сторон высокие, скалистые и густо поросшие хвоей горы. Мы шли по берегу реки, перебрасываясь то на одну, то на другую сторону и иногда ныряя в туннели. В конце концов мне попало в глаз и пришлось уйти внутрь…
Газеты сообщают об убийстве Ленина. Это человек, сыгравший большую роль в мировой истории. (…) Ленин для социализма принес огромный вред, скомпрометировав идеи социализма в глазах многих. Но если бы когда-либо суждено было социализму воцариться на земле, то Ленина оценят как человека, предвосхитившего многое – и поставят ему памятник».
На следующий день Сергей Прокофьев узнал, что Ленин остался в живых.
4 сентября композитор оставил в дневнике следующую запись: «Настроение хорошее. Я у свершения задуманного (…) плана: я в Америке. План был нелегкий, но я неуклонно восемь месяцев шел к цели – и пришел! Теперь начинается вторая стадия: надо победить эту Америку. И предчувствия хорошие».
5 сентября он был в Чикаго, «мифическом» городе: «Я ожидал от Чикаго ошеломляющего движения. Оно и было, но город мне показался каким-то тесным, да и некрасивых, закопченых домов было немало. Я гулял мимо ослепительных магазинов, но мои доллары кончились и магазины были для меня безопасны: в кармане двадцать центов и больше ничего…
В восемь часов вечера мы выехали в Нью-Йорк с поездом, делающим свыше восьмидесяти верст в час в среднем. Но путь и вагоны так хороши, что скорость совсем не дает себя знать. (…) Утром едва не прозевали Ниагару. Она мелькнула сквозь просеку и скрылась. Однако я успел рассмотреть знакомый по крутым очертаниям водопад, который мы увидели, если так можно выразиться, в спину, так как просека выходила немного выше его падения. Проехав некоторое расстояние, поезд круто свернул и въехал на высокий мост. У ног неслась река, после падения стиснутая высокими берегами. Вдали виднелся второй мост, а позади него вздымалось белое облако, скрывавшее водопад. Это был утренний туман, подымавшийся над ним. Так мы и не повидали как следует прекрасную Ниагару, зато вдоволь налюбовались на отвратительные фабрики, которыми она густо обляпана со всех сторон. Да! Американцы, несмотря на весь свой размах, все же недостаточно шикарны, чтобы позволить себе роскошь иметь Ниагару. О, эстеты! И к вам-то я еду играть мою музыку!»
И вот, наконец, он – долгожданный Нью-Йорк: «Гудзон, по берегу которого шел наш путь, становился все шире и шире, мелькали красивые постройки и дворцы, и чем ближе к Нью-Йорку, тем вид был интересней. Наконец замелькали равномерные, нумерованные улицы, а затем мы углубились под город и так, не вылезая из-под земли, и приехали на вокзал. Затем нас удушили бензиновой вонью автомобили, которые пускали ее сюда же, под землю, вертясь у входа вокзала, и мы поехали по улицам Нью-Йорка. (…) Нью-Йорк, ничуть не поразив, произвел просто отличное впечатление. Впрочем, засыпая, я думал: неужели я действительно в Нью-Йорке? Как много об этом думалось и как невероятно несбыточно казалось это при теперешней обстановке! А в наших столицах вой и резня».
В отеле оказалось жить слишком дорого, и Прокофьев снял меблированную квартиру: «Мой апартамент в две комнатки + ванная. Вид не нарядный, но меня это абсолютно не трогает. Было бы тихо, да удобное кресло, да не качался бы письменный стол. А то, что внизу сидит один мрачный негр, так это мне даже нравится. Единственно я боюсь, что американцы – снобы, и не пристало известному музыканту жить в лачуге. Но, во-первых, ничего не поделаешь, во-вторых, это до первого аванса, в-третьих, никого я сюда не приму».
10 сентября Сергей Сергеевич начал, по его словам, «наступательные маневры на Нью-Йорк»: «Адамс (менеджер. – С. И.) сказал, что лучше всего мне начать выступлением с оркестром и дал мне карточку к Дамрошу. Дамрош – дирижер, который сейчас как раз в моде (так сказать в «патриотической» моде), так как вернулся из Франции, где давал концерты для воинства.
Больм, один из известных балетных артистов дягилевской труппы, служащий теперь в «Метрополитен» и ставящий там, в противовес итальянщине, русские оперы, страшно обрадовался, узнав, что я здесь. Он мне наговорил кучу полезных советов для ориентации в Нью-Йорке. «Главное, – сказал он, – не спешите, делайте все важно, независимо, все равно сезон не раньше октября, а то и ноября». Про столь славную дягилевскую труппу я узнал печальные вести: полный развал по вине войны. Впрочем, недавно они имели успех в Испании, а теперь Дягилев получил разрешение прибыть в Лондон (что очень трудно), но труппа крошечная и декорации, как сообщают газеты, еще не прибыли. Стравинский был очень болен, едва не умер от легких, нуждался в деньгах. Патриотические французы, несшие его на руках перед войною, теперь, после Брестского мира, и слышать не хотят о его музыке. В последнее время дела его и здоровье поправились и он работает. Мой балет «Шут» (господи, я же забыл о нем!) был получен Дягилевым в Америке два года назад. Он расхаживал с ним, просил пианистов сыграть и восклицал: «Черт знает, что такое! Ничего не понимаю!» А ведь такая ясная и хорошая музыка!»
12 сентября Прокофьев узнал, что дочери царя расстреляны большевиками.
«Какое безобразие! – восклицает он в дневниках. – Петроград горит (не думаю, чтобы огонь) и занят отрядами крестьян, образовавшими белую гвардию. Ну, уж это выдумка американцев! Но, во всяком случае, я вовремя уехал».
Расстроенный тем, что концертов, скорее всего, не будет до ноября-декабря, а значит и денег, композитор тем не менее не забывал об удовольствиях: «Вечером фрак, шапокляк (как в старое доброе время в Лондоне) и отправился на открытие легкомысленного варьете. Но самые легкомысленные американские танцы оказались до безупречности приличны, балерины нарядные, хорошенькие и чистенькие. Впечатление приятное, пестрое и прекрасное. Публика во фраках и дамы декольтированы. Приятно – давно не видел (…) Был на Cuney-Island, где Луна-Парк и всякие развлечения. С наслаждением катался с Американских гор (здесь – «Русские горы»), с которых американцы носятся с ненашей скоростью».
В середине сентября композитор сетует: «Во всех газетах заметки про меня, (…) а сам знаменитый композитор сидит с тремя чужими долларами в кармане и даже поухаживать ни за кем не может. (…) Деньги, деньги – вот, что нужно, а пока сиди смирно. (…) До чего очертело сидеть без денег, ничего себе не позволять, скромничать, считать – прямо тошнота. А в придачу слышать со всех сторон о своей знаменитости, читать через день о себе в газетах и ждать, что через три месяца будет, если не десятки тысяч, то просто тысячи. Так дайте же, олухи, сейчас!»
Наконец 26 сентября на квартиру к Сергею Прокофьеву прибыло долгожданное пианино, присланное Стейнвеем, и работа закипела. Осенью 1918 года композитор завершил свое первое сочинение заграничного периода – «Сказки старой бабушки».
С появлением денег Прокофьев вновь перебрался из «апартаментов» в отель: «Простился с моей 109-й улицей и переехал в Hotel Wellington, лежащий довольно центрально. Отель спокойный, публика живет помесячно, позволяют играть на фортепиано и вообще здесь довольно много артистов. У меня две хороших комнаты с ванной и двумя шкапными комнатами, в которых удобно прятать чужих жен, если будут ломиться разъяренные мужья. Но увы, пока романтическая сторона хромает».
Он с успехом давал концерты по всей Америке. Подводя итоги 1918 года, Прокофьев писал: «1918 год весь прошел под флагом Америки: январь-февраль – планы, март-август – путь и сентябрь-декабрь – сама Америка. Я был готов к обоим результатам: и бешеным успехам и чистке с голода сапог. Линия прошла посередине, ближе к бешеным успехам, за вычетом из них недоумения, которое вселяет моя музыка. Но я удрал из России – и это много».
Многие говорили композитору: «Не оставайтесь долго в Америке, среда убьет вас, вам надо более утонченное общество Европы».
И в конце концов он внял этим словам и после трехлетнего пребывания в Америке перебрался в Париж. А в 1936 году вернулся на родину, где, как думал композитор, открывались новые перспективы и жизни, и творчества, и обосновался в Москве.
Сергей Ишков.
Фото culture.ru, ru.wikipedia.org