В Арт-центре Института современного искусства на «Красном Октябре» прошла премьера спектакля «Я – маленький, или Страсти по нескАзанному» педагога-постановщика Марины Могилевской (16+).

В режиссерском портфолио Марины Олеговны этот спектакль стал уже вторым, поставленным с выпускниками актерского факультета ИСИ. О первой постановке «Пушкин. В поисках любви» газета «Московская правда» подробно писала в январе нынешнего года.
Как и в предыдущем случае, Марина Могилевская выступает здесь автором текста. Особенно восхищает то, что педагог ставит спектакли на материале, который ее по-настоящему волнует – зритель чувствует это безоговорочно. А раз так, то не подключиться к происходящему на сцене практически невозможно. Каждая звучащая со сцены фраза – про нас, про наши собственные детские обиды, взаимное недопонимание со взрослыми, «побег» в доступную форму обособления, поиски границ и, наконец, обретение любви «поверх голов».

В центре сюжета пьесы, начинающейся словами «Вот и все. Посидим на прощание, мать, в одиночестве» – достаточного ходовая история взаимоотношений взрослеющего сына и матери, двух самых дорогих друг для друга людей.
Впрочем, сам спектакль начинается задолго до произнесения главным героем этой фразы. Перед зрителем в изящной, пластически решенной форме проходит история семьи. Вот мама и папа, влюбленные в друг друга, не могут разнять рук, и их будни напоминают счастливый бесконечный танец. Вот на свет появляется малыш, и нежности родителей нет предела. Вот они дружно гуляют с повзрослевшим ребенком, держа его за руки с двух сторон. Но неожиданно что-то происходит между взрослыми, пара начинает смотреть в разные стороны, и отец медленно уходит со сцены в никуда. Мать же, внезапно съежившаяся, постаревшая, одинокая, остается сидящей спиной к залу. Эта поза теперь станет ее визитной карточкой. А от мгновений счастливого прошлого останется разве лишь воспоминание сыном улыбающейся женщины, бредущей по полю, ловко зафиксированные кинопроектором на экране задника сцены.

Дальнейшие события представляют собой бесконечный монолог взрослеющего подростка, записывающего свои детские обиды в дневник. И львиная доля упреков приходится, конечно, в адрес матери, с которой сын остался жить. Во время перечитывания дневника герой порой желчно, порой рыдая выплескивает в зал свою боль, копившуюся годами. Вычерпывает ее до дна, при этом практически избивая родного человека бесконечными обвинениями.
В ход идут классические упреки в том, что мать никогда не считалась с тем, чего именно хотел сам сын. Что она сама выбирала ему друзей и компании. Что обесценивала его маленькие достижения. Что разошлась с человеком, который был «плохим мужем», но при этом был «хорошим отцом»… Мельчайшие детали собираются в огромный снежный ком.

Но в ответ зритель слышит лишь звенящую тишину: взрослеющий юноша, инфантильный молодой человек, ощущающий себя жертвой тирании, не разу так и не отважился поговорить о своих чувствах вслух…
К достоинствам постановки относится ее неявная, но все же трехчастная форма. Во второй части истории мы видим, как мать, так же перечитывающая собственный дневник, воспринимает те же самые ситуации совершенно иначе, со своей колокольни. Зритель видит, как корит она себя за то, что не оправдывает надежд сына. Как беспокоится за то, что без мужской поддержки не сможет защитить его от влияния дурной компании. Как ее, вынужденную теперь справляться со всем в одиночку, хватает лишь на то, чтобы достойно одеть мальчика, обуть, накормить, обеспечить хорошими книгами, дать образование. Порой в ущерб себе она продолжает тянуть этот воз и делает все возможное, чтобы у ребенка было все самое-самое лучшее!

Эта часть спектакля особенно пронзительна и вызывает у зрителей множество размышлений, ассоциаций. Действительно, многие наши родители, будучи детьми послевоенного времени, вместо любви от дедушек и бабушек получали лишь заботу – вот такая случилась в жизни страны досадная подмена. Но забота – это не любовь, это всего лишь внимание. А внимания никогда не бывает много.
Да и о какой любви можно говорить, когда речь в семьях тех лет велась прежде всего о том, чтобы ребенок в голодное послевоенное время элементарно выжил? Для детей, чье детство пришлось на перенаселенные коммуналки, когда донашивались обноски старших, когда эти старшие порой не имели даже восьмилетки за плечами (война!) – поступление в институты, покупка скромной квартиры в кооперативе и обзаведение серьезной редкой библиотекой было колоссальным личностным прорывом.

Но их собственные дети, получившие данное богатство уже «в наследство», эгоистично воспринимали достижения предков как само собой разумеющееся, как естественный собственный стартовый капитал. А ведь он вовсе не был ни «естественным», ни «собственным»!
И, кстати, о редких книгах, коробки с которыми стали основной частью сценографии спектакля Марины Могилевской… Если в драматичных эпизодах постановки «Я – маленький» герои говорят исключительно прозой, то в эпизодах счастливых воспоминаний они буквально врываются в пространство возвышенной поэзией строк Ахматовой, Цветаевой, Бунина, Тарковского, Бродского… И что самое удивительное – переход этот происходит невероятно органично. Вот такой изумительный режиссерский прием, многое говорящий о самой Марине Олеговне.
И еще одна любопытная режиссерская находка, о которой нельзя не упомянуть: на сцене герой часто присутствует в двух возрастных ипостасях – взрослого и ребенка. Пока взрослый читает дневник, ребенок то разъезжает на велосипеде, то резвится с матерью на полу, то путешествует на плечах отца… Меж тем в спектакле заняты всего четыре артиста – Андрей Корниенко, Екатерина Колосова, Евгений Павлов, Алина Авдеева.

Кодой этой полуторачасовой постановки является трогательная сцена, в которой повзрослевший сын, взявший ответственность за семью на себя, укачивает на коленях, словно малыша, постаревшую мать. Его собственные размышления о счастливом детстве и грузе юношеских обид, о материнской заботе и диктате, о правде и кривде отступают на второй план и растворяются в тотальном ощущении любви, глядящей в будущее «поверх всех голов» и буквально заливающей сцену.


Деликатность, сила чувств, исповедальность, вдумчивость, поэтичность – главные черты спектакля Марины Могилевской. «Зачем идти смотреть такой материал?» – возможно, спросите вы. Отвечу: чтобы захотелось прийти домой и внимательно посмотреть в глаза собственному ребенку, спросить его не по форме, а по сути: «Как живешь, дорогой?» Этот спектакль обязательно нужно смотреть. Чтобы что-то изменилось в нашей собственной жизни. И непременно – в лучшую сторону!
Елена Булова.
Фото предоставила Марина Могилевская





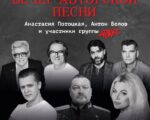






Прекрасный спектакль, это такая тонкая и свежая постановка – восторг! Есть желание посмотреть его еще раз со взрослеющей дочерью, думаю, это просто семейный спектакль, это, действительно, это – ода любви и нам всем ее надо почувствовать. Поздравляю Марину Олеговну с премьерой и рекомендую всем, кто еще не видел!