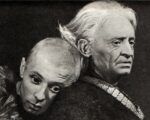17 августа 1871 года Лев Толстой и Фёдор Тютчев встретились на железнодорожной станции Чернь. Фёдор Иванович ехал из усадьбы Овстуг, Толстой возвращался от Фета через свое имение Никольское-Вяземское в Ясную Поляну. С «гениальным стариком» Лев Николаевич проговорил в вагоне поезда четыре часа. Эта встреча произвела на Толстого сильнейшее впечатление.

Сам Тютчев о встрече с Толстым упоминал в телеграмме, посланной им жене из Москвы 22 августа: «Утомительно, но не скучно. Много спал. Приятная встреча с автором «Войны и мира».
В феврале 1873 года, узнав, что Фёдор Иванович Тютчев тяжело болен, Лев Николаевич с грустью писал о нем своей тетке Александре Андреевне Толстой: «Вы не поверите, как меня это трогает. Я встречался с ним раз десять в жизни; но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки. Как он примет смерть, которая во всяком случае близка ему? Если ему лучше, передайте ему через кого-нибудь мою любовь».
Толстой был моложе Тютчева на четверть века. Многое из того, о чем писал и думал поэт, станет Льву Николаевичу ближе и дороже именно в зрелом возрасте.
Доподлинно точных сведений об их встречах нет, однако можно с уверенностью сказать, что большинство из них произошло в Москве. Но вот самая первая встреча Толстого и Тютчева точно произошла в Петербурге.
«Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне, – вспоминал много лет спустя Лев Николаевич. – И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих севастопольских рассказов, особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно».
Этой встрече предшествовало множество горьких для России событий. Еще в самом начале Крымской войны Тютчев предвидел ее позорный конец. В июне 1854 года поэт писал из Москвы жене в Овстуг о том, что Россия стоит «накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало-постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции».
Между тем Лев Николаевич, которому в ту пору было всего 26 лет, рвался к театру военных действий. Полный патриотических чувств, 7 ноября 1854 года подпоручик Толстой прибыл в осажденный Севастополь и через пять месяцев попал на самый опасный участок обороны города – 4-й бастион. Уже в первые дни восторг и гордость за русские войска сменились у писателя сначала недоумением, а затем – негодованием из-за их неподготовленности к военным действиям. 23 ноября Толстой записал в своем дневнике: «Больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться. Все идет навыворот… Грустное положение – и войска, и государства».
Таким образом, мысли его уже были схожи с тютчевскими. Все увиденное Лев Николаевич поторопился изложить на бумаге – так родились его «Севастопольские рассказы». Первый из них под названием «Севастополь в декабре месяце» вышел в июне 1855 года в «Современнике» Николая Некрасова. Его восторженно приняла передовая русская интеллигенция. Понравился этот рассказ молодого писателя и Фёдору Тютчеву: он по нескольку раз перечитывал особо понравившиеся ему места, цитировал их знакомым.
Отправляясь в отпуск в начале августа 1855 года в Овстуг через Москву, Фёдор Иванович не переставал думать о войне. 13 августа, приехав в Рославль, в пристанционной гостинице он написал свое грустно-пророческое стихотворение «Вот от моря и до моря…», в конце которого прямо предсказал войне трагический конец: «Уж не кровь ли ворон чует Севастопольских вестей?»
Несмотря на героизм защитников Севастополя, в августе город пришлось оставить. 4 сентября 1855 года Лев Николаевич писал Татьяне Александровне Ергольской: «Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах (…) В эти последние дни мысль бросить армию совсем приходит мне в голову все чаще и настойчивее».
Весть о потере Севастополя застала Тютчева в Москве, когда он вернулся из Овстуга. Его дочь Анна оставила по этому поводу такую запись: «Мой отец только что приехал из деревни, ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его не раздраженным; из его глаз только тихо катились крупные слезы».
Восторгаясь героическими защитниками Севастополя, поэт хорошо понимал, что оставление города не их вина. Две недели спустя он прямо написал супруге о том, кто был главным виновником поражения России в этой войне: «Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах».

Этот «злосчастный человек» – Николай I.
Понятно было желание Фёдора Ивановича поскорее увидеть автора «Севастопольских рассказов», чтобы из уст очевидца услышать всю правду о крымских событиях.
Они встретились в ноябре 1855 года, когда Лев Николаевич приехал в Петербург. В офицерском мундире с недавно полученным за военные отличия орденом Святой Анны 4-й степени Толстой приехал на вечер к Тургеневу, у которого составлялось письмо великому русскому актеру Михаилу Щепкину по случаю пятидесятилетия его сценической деятельности. У Тургенева собрался бомонд литературного Петербурга: Тютчев, Гончаров, Писемский, Майков, Дружинин…
Знаменитым поэтом, как вспоминал о нем Лев Николаевич, Тютчев вряд ли еще был, хотя и имел уже свою первую книжку стихов. Поэт больше блистал в аристократических салонах своими меткими высказываниями, острыми политическими анекдотами. Да и сам Толстой до встречи с Фёдором Ивановичем вряд ли читал что-то из его стихотворений. Впоследствии он признавался: «Когда-то Тургенев, Некрасов и Кº едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта».
Предубежденный против стихов вообще, Толстой неохотно взялся за чтение Тютчева, но, познакомившись с его произведениями, сделался на всю жизнь горячим поклонником поэта, которого ставил наравне с Пушкиным и Лермонтовым. Позднее Лев Николаевич скажет даже, что «Тютчев, как лирик, несравненно глубже Пушкина».
После переезда в Москву, поближе к Ясной Поляне, нанося визиты многочисленным московским родственникам и знакомым, Лев Николаевич, считавшийся завидным женихом, познакомился у гостеприимных Сушковых с их племянницей, третьей дочерью Тютчева от первого брака Екатериной. Вскоре Толстой почувствовал, что Екатерина начала ему «спокойно нравиться». Фёдор Иванович, приезжая в Москву, встречал Льва Николаевича у родственников, и, видимо, это ему было приятно.
Весть об ухаживаниях Толстого дошла даже до путешествовавшего по Италии Тургенева. 24 февраля 1858 года он написал Афанасию Фету: «Правда ли, что Толстой женится на дочери Тютчева? Если это правда, то я душевно за него радуюсь».
Однако свадьба так и не состоялась: молодые люди не нашли общего языка и постепенно началось взаимное охлаждение.
С годами Лев Николаевич все больше находил сокровенного в поэзии Тютчева. Ряд встреч, а особенно последняя, случившаяся на самом закате жизни поэта, подтвердила их душевное единство.
Заканчивалось лето 1871 года. Тютчев и Толстой встретились в вагоне поезда, направлявшегося в Москву. Фёдор Иванович написал жене о приятной встрече с автором «Войны и мира», а Лев Николаевич с восторгом сообщил Афанасию Фету: «Ехавши от вас, встретил я Тютчева в Черни и четыре станции говорил и слушал, и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубоко настоящего, умного старика».
Толстой долго находился под впечатлением этой встречи. Спустя три недели он написал Николаю Страхову, известному публицисту, с которым был в дружеских отношениях: «Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы 4 часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя старик. Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил».
Все чаще в трудные минуты жизни Лев Николаевич читал произведения Фёдора Ивановича, находя в этом отдохновение своей мятущейся душе. Анна Константиновна Черткова, жена друга и издателя произведений Толстого, вспоминала о том, как однажды, в конце восьмидесятых годов XIX века, у Толстых обсуждали программу одного из сборников стихотворений, который был бы доступен массовому читателю: «А потом вдруг говорит:
– Что же это вы забыли моего любимого поэта? (…) Ну, конечно, Тютчев! – говорит Лев Николаевич, покачивая головой. – Как же это вы забыли его? Впрочем, не только вы, его все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел… Он слишком серьезен, он не шутит с музой, как мой приятель Фет… И все у него строго: и содержание, и форма. Вы знаете какое-нибудь стихотворение его?
Я называю: «Слезы людские»…
– Да, и это, но есть и лучше этого, например «Silentium». Никто не помнит? Так вот я вам скажу, если не забыл еще…
– Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои» – начинает он тихо и проникновенно, просто и глубоко трогательно… Голос его слегка дрожит от внутреннего волнения… В памяти быстро запечатлелась вся его фигура во время чтения: вот он сидит, откинувшись на спинку сиденья, руки положил на ручки кресла, голову немного склонил на грудь и ни на кого не глядит, а устремил взгляд куда-то вперед, – но не вверх, а скорее вниз, в землю… Голос его звучит глухо и грустно… Чувствуется, что он сам пережил то, о чем говорит поэт. Чувствуется глубокое страдание одинокой души, и становится до слез жалко его».
В 1886 году вторая жена Фёдора Тютчева Эрнестина Фёдоровна вместе с бывшим сослуживцем поэта по цензурному комитету Аполлоном Майковым выпустила первое полное собрание сочинений Тютчева (наиболее полное на тот момент). В книге впервые были опубликованы публицистические статьи на русском языке и в подлиннике на французском. 262 стихотворения, 19 из них впервые. Книга вышла в санкт-петербургской типографии Тренке и Фюсно. Один экземпляр этого издания достался Льву Николаевичу Толстому. В конце 1880-х годов Толстой по просьбе домашнего воспитателя его детей Осипа Петровича Герасимова разметил условными значками и буквами в сборнике особенно нравящиеся ему стихи. К – Красота, Г – Глубина, Т – Тютчев (мысль и форма, свойственная одному Тютчеву), К. Т – Красота. Тютчев, Т. Г. К – Тютчев. Глубина. Красота, Т. Ч. К – Тютчев. Чувство. Красота. Помеченный экземпляр хранится в Государственном музее Л. Н. Толстого.
Так, из 62 отмеченных им стихов Тютчева, в 17 он находит элементы тютчевского своеобразия, в 14 – красоты, в 4 – глубины, в 8 – соединение глубины и своеобразия, в 6 – своеобразия и красоты, в 4 – своеобразия и силы, чувства, в 2 – красоты, своеобразия и глубины, в 1 – глубины и красоты, в 1 – красоты, своеобразия и чувства.
Уже будучи совсем преклонных лет, часто болея, Толстой вновь и вновь обращался к стихам Тютчева. Особенно ему нравилось «Silentium». Лев Николаевич часто читал его наизусть. У Толстого это стихотворение помечено буквой «Г» – глубина.
«Это – образец тех стихотворений, в которых каждое слово на месте», – говорил Толстой.
В октябре 1910 года, за 36 дней до смерти, вспомнив «Silentium» Тютчева, которое он перечитал в «Круге чтения», Лев Николаевич сказал: «Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения».
24 октября 1910 года, за 13 дней до смерти, в письме к И. И. Горбунову-Посадову по поводу изданий «Посредника» для третьего отдела Толстой советует выбрать «самые лучшие стихотворения Пушкина, Тютчева, Лермонтова, даже Державина. Если мания стихотворства так распространена, то пускай, по крайней мере, они имеют образец совершенства в этом роде», – заключил Толстой.
В 1899 году пианист, композитор Александр Борисович Гольденвейзер вспоминал одно из своих посещений Льва Николаевича: «Заговорили о Тютчеве. На днях Толстому попалось в «Новом времени» его стихотворение «Сумерки». Он достал по этому поводу их все и читал больной. Лев Николаевич сказал мне: «Я всегда говорю, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет, – это истинное искусство. Или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его». И Толстой начал прерывающимся голосом:
Тени сизые смесились…
Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: «Все во мне, и я во всем!..» – голос его оборвался…»
Более 50 лет своей жизни Толстой самым серьезным образом интересовался и восхищался поэзией Фёдора Ивановича Тютчева, которую ставил на уровень, а иногда и выше самых лучших ее образцов в русской литературе.
Сергей Ишков.
Фото ru.wikipedia.org